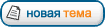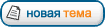Светлана 10000 писал(а):
Конечно более эффективно объединять усилия и действовать сообща, но открещиваться от этих людей я тоже не стану! Насколько мне известно, некоторые добровольцы, сотрудничающие с Peta действуют в таком духе, и по-моему зачастую достаточно эффективно.
В другой ветке, когда обсуждалось нечто подобное, я уже писала, к чему такое "сотрудничество" привело:
http://www.vita.org.ru/forum/viewtopic.php?p=9268#p9268С 1991 года на биофаке МГУ курс биоэтики читал кандидат биологических наук, разработчик альтернатив А.С.Лукьянов. У него там же, на биофаке была своя лаборатория, где он разрабатывал альтернативы. Этот человек - наш единомышленник, вегетарианец. Все было хорошо до 2004 года. Все шло к тому, что первый вуз России станет первым вузом, отказавшимся от опытов на животных. Но увы, этому не суждено было сбыться. В тот год некие личности выкрали (или выпустили) из биофаковского вивария сто с лишним крыс. И оставили разные надписи, среди которых - "Внедряйте альтернативы в учебный процесс!" (или что-то вроде того). В результате, у А.С.Лукьянова отбирают лабораторию, и он оказывается вынужден работать над альтернативами дома.
Но это еще не все. В 2006 году некие подростки срывают День открытых дверей на биофаке МГУ - неожиданно выскакивают, разворачивают баннер и начинают кричать нечто вроде: "Нет опытам на животных!" После чего у А.С.Лукьянова отбирают курс биоэтики, и с тех пор он значится в МГУ только в качестве научного сотрудника (а лабораторию, не забудьте, у него отобрали двумя годами раньше)!
Вы скажете - а что же он не объяснил, что он к этому непричастен? Он это объяснял всеми возможными способами, но слышал один ответ, суть которого следующая: "Мы знаем, что Вы толкаете антививисекционные идеи, значит, это благодаря Вам устроили такое".
И вот еще статья на эту тему, часть ее как раз посвящена действию "прямых методов":
http://www.vita.org.ru/veg/people/pavlova.htmГлобальность в противовес локальности
Павлова, имея стратегический склад ума, всегда стремилась пробраться к истокам проблемы и сосредоточить усилия на глобальном решении, не распыляясь на локальных случаях. Понятно, что когда корабль идёт на рифы, и уже получил пробоину, самое неразумное предложение, которое только может быть - пытаться выплёскивать воду стаканами, вместо того, чтобы добраться до рубки и изменить курс. Это очевидно всем, и, тем не менее, в последнее время большой интерес в среде борцов за права животных стали вызывать так называемые "прямые" методы или методы локального спасения конкретных животных в различных сферах.
Для тех, кто хорошо осознаёт масштаб индустрий смерти - мясной, меховой, экспериментальной и т.д., совершенно очевидно, что практика спасения конкретных животных являет собой не просто борьбу с ветряными мельницами, но и досадный стратегический просчёт, который отнимает время от поиска более глобальных подходов и замедляет процесс кардинального изменения положения животных. Более того, "прямые" методы на сегодняшнем уровне развития общества всегда вызывают ответную карательную реакцию со стороны государства, осуждение обществом всего зоозащитного движения и, в конечном счёте, укреплению позиции тех, против кого была направлена борьба. В итоге - спасены десятки и сотни, а обречены в результате сорванных проектов на дальнейшие мучения - тысячи и миллионы.
Ошибка, на мой взгляд, исходит от непонимания, что на современном этапе развития человечества мы имеем дело не с прямым злом, а с машиной, состоящей из массы звеньев и надстроек - министерств, потребителей, законодателей и т.д., каждая из которых связана с жестокостью опосредованно. Конечно, первая реакция любого человека при столкновении с жестокостью - локальное освобождение страдающего в данный момент существа. Анализ же ситуации и познание масштабов проблемы рождает стойкое желание помочь как можно большим животным, а, следовательно, осознание необходимости использовать далеко идущие стратегии. Конечно, большинство людей настроено получить сиюминутные результаты, пусть даже в ущерб масштабам спасения, поскольку глубокие подходы требуют недюжинного терпения, воли, упорства и веры.
Простейшая арифметика легко покажет результативность долгосрочных стратегий. Так, например, разработка компьютерной программы (например, по курсу фармакологии), переговоры с вузами и министерством по поводу внедрения инновации, безусловно, потребуют больше времени, чем сиюминутное спасение нескольких животных из вивария. Однако, внедрение программы будет означать: освобождение тысяч подопытных животных в год в каждом вузе, где она будет внедрена, распространение такой практики по другим вузам, и, наконец, изменение менталитета обучающихся студентов, что, в конечном счёте, обеспечит дальнейшее освобождение несоизмеримо большего количества животных.
Если проследить за несколько веков мировую историю борьбы за права животных, то становится совершенно очевидно, что "прямые" методы никогда и нигде не играли, и по определению не могут играть хоть какую-нибудь существенную роль в освобождении животных. Прогресс был обусловлен: 1) восполнением информационного пробела о положении животных (передачи в СМИ, книги, фильмы, уроки, лекции, публичные акции); 2) работой по внедрению альтернатив использованию животных в различных сферах (этичная еда и одежда, гуманные методы тестирования продукции, развлекательные мероприятия без использования животных, гуманные методы регулирования численности бездомных животных и т.д.), и 3) лоббированием законов.
Мировой рост вегетарианского движения, запрет капканов, запрет косметических тестов на животных в Англии (а в 2009 - в странах Евросоюза), запрещение собачьих боёв, охоты на лис; замена подопытных животных в вузах, вытеснение цирков, фотобизнеса и др. шаги, освободившие миллионы животных, стали возможными только благодаря сочетанию информационной, академической и законодательной деятельности.
В России ситуация обстоит точно также. Все судьбоносные для животных шаги - создание медицинского вегетарианского центра (научное обоснование пользы вегетарианства), запрещение проведения экспериментов без обезболивания, внедрение альтернатив опытам на животных в науке и учебном процессе, внедрение курса биоэтики в вузах, создание федерального закона по защите животных от жестокости (призванного освободить миллиарды животных) и др. - были сделаны благодаря стратегическим способностям Павловой и других.
Попытка представить локальный и глобальный подходы как две различных стратегии не выдерживает никакой критики. В таком случае, действия солдата, сорвавшего операцию по спасению тысяч людей в окружении только из-за того, что он увидел среди пленных лицо своего друга и ради его скорейшего спасения открыл преждевременную стрельбу по его конвоирам, также можно назвать стратегией, а не ошибкой стратегии. Это сравнение абсолютно адекватно, поскольку во всех странах организации академического плана, работающие во имя спасения миллионов животных, страдают из-за непродуманных, "прямых" действий.