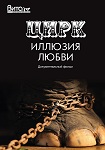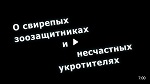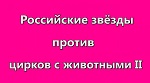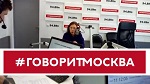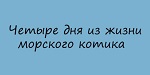|
Гуманитарное учение
или
гуманитарианизм 1
Г. С. Солт
"В человеческой природе есть нечто,
истекающее из самой ее сущности,
что делает неприятными для нас страдания других;
оно заставляет нас сочувствовать им
и как бы включает нас в круг их страданий.
Тяжело видеть мучение кого бы то ни было,
человека или животного;
тяжело даже слышать об этих мучениях".
Воластон. Религия природы.
I
Определение, даваемое мною гуманитарианизму,
как видно из эпиграфа, опирается на свойства, врожденные человеческой
душе, в противоположность утилитарному учению, выводящему нравственные
основы из условий общественной жизни. Тут не место вдаваться в рассуждения
о различиях между двумя направлениями этики - интуитивном
и утилитарном, так как самый факт сострадания признается и тою
и другой школой. Согласимся ли мы с Бутлером, признающим сострадание
за вполне самостоятельное, независимое чувство в человеческой душе,
или же с Гоббесом, утверждающим, наоборот, что сострадание есть
не что иное, как воображение или предвкушение будущего несчастья
для нас самих, вызванное картиной несчастья другого человека, -
для современного гуманитарианца это безразлично, так как он вполне
убежден, что в этом вопросе врожденное чувство и побуждение просвещенного
самосохранения должны в конце концов совпасть. Лекки в своей "Истории
нравственного развития в Европе" говорить, что сторонники врожденных
понятий утверждают лишь одно, а именно, что человек по природе своей
знает, что есть разница между человечностью и жестокостью (бесчеловечностью),
что первая присуща высшей или лучшей стороне нашей души, и что наша
нравственная обязанность развивать в себе это чувство.
Но это воззрение, приписывающее человечность высшей стороне нашей
природы, уже этим самым признает существование и низшей, жестокой
ее стороны. В человеческой душе, по-видимому, существуют два различные
и враждебные друг другу течения, побуждающие одно к разрушение и
жестокости, другое - к кротости, единению и любви; истинная цивилизация
представляет из себя картину постеленного ослабления низшего начала
и такого же постепенного развития и возрастания высшего.
Для того, чтобы человечность могла быть признана разумным и логичным
началом, на которое цивилизованные люди могли бы ссылаться с полной
верой в его конечное торжество, она должна опираться на твердую
и широкую основу и включать в поле деятельности своей любви не одних
только людей, но и все одушевлённые существа. "История и современные
опыты достаточно ясно доказывают, - говорит. Лекки, - что невольный
ужас и естественное чувство отвращения, вызванные страданиями людей,
не отличаются существенно от чувств, вызванных страданиями животных".
"Сперва, - продолжает он, - чувство любви простирается лишь
на семью; вскоре круг ее действий расширяется и включает в себя
сперва целый класс, затем народ, группу народностей, все человечество;
наконец, влияние этого чувства отражается и на отношениях человека
к миру животных".
Итак, мы видим, что гуманитарианизм, понятый как и широко распространяющееся
чувство любви, означает нечто большее, чем с одной стороны "филантропия",
а с другой - "доброта к животным". Но, несмотря на то,
что важность этого вопроса всеми признана, большинство лиц, писавших
когда-либо о задачах нравственности, не достаточно углублялось в
разработку его и, по-видимому, избегало становиться лицом к лицу
с теми выводами, к которым правильная постановка его неизбежно должна
привести. Они нам передали огромные тома ученых рассуждений по поводу
всевозможных вопросов жизни, между тем, как в большинстве случаев
они избегали той почвы, которая могла бы служить надежной основой
для системы "прикладной" нравственности. Прежде чем вдаваться
в рассмотрение современного гуманитарианизма, нам не мешало бы оглянуться
назад и проследить историю развития того начала, на котором основывается
это учете.
Мы не станем останавливаться на мифических сказаниях о золотом
веке, ХОТЯ И ОНИ указывают на то, что понятие о кротости и человечности
существовало в самые отдаленные времена. Первое определенное требование
любви и жалости ко всем одушевленным существам мы находим в учении
Будды, проповеданном людям за пятьсот лет до Р. X. "Тот, кто
человечен, - так гласит буддийский закон - не станет убивать. Это
правило вечно и неизменно". Сам Будда во всех тех сказаниях,
которые окружают его имя, представлен нам либо проповедующим учете
о любви ко всему живущему, либо самим следующим этому учению. Нужно,
к сожалению, сознаться, что в последующие времена буддийское учение
несколько сузилось и застыло вследствие безнадежного и пессимистического
отношения к жизни позднейших учителей буддизма и большой их склонности
к внешним обрядам. Почти одновременно с возникновением буддизма
на Востоке, на Западе стала укореняться весьма схожая во многих
отношениях с этим учением система Пифагора, которая хотя и основывалась
главным образом не на гуманитарных, а на религиозных и социальных
началах, но включала в свои правила также и требование, чтобы человек
не убивал и не мучил невинных животных.
Учение же о переселении душ, составляющее существенную основу
как буддизма, так и философии Пифагора, без сомнения должно было
расширять круг симпатий человечества, образуя тесную связь не только
между людьми, но также и между человеком и всей остальной одушевленной
природой. По-видимому, учение Пифагора не имело значительного влияния
на умы последующих поколений в Греции относительно вопроса о гуманности.
Природная же человечность и мягкость греческого характера, в сравнении
с характерами других народов древности, часто обращали на себя внимание
историков. У греков было врожденное отвращение к жестокости, кровопролития
и насилия; на это указывают как литература, так и история народа,
а также и то обстоятельство, что между алтарями, воздвигнутыми афинянами
своим богам, один алтарь предназначался Состраданию. Нельзя, однако,
не сознаться, что эта мягкость нравов вытекала скорее из эстетических,
чем из нравственных соображений, и что нам не трудно было бы привести
из истории Пелопонесских войн многочисленные примеры жестокости
и насилия. "При всем их умственном развитии и их чуткости,
- говорить один из новейших историков2,
- у греков было мало сердечности; человеческие чувства проявлялись
у них порывами и не были постоянной чертой их характера. Они были
добры с родными и друзьями, но у них не доставало великодушия по
отношению к врагам и беззащитным рабам". Однако, при дальнейшем
развитии и распространении цивилизации, эта человечность в греках
сделалась вполне космополитичной, и весьма вероятно, что необычайная
мягкость и человечность, отличавшая закон ессеев, этой странной
еврейской секты, история которой до сих пор так мало выяснена, обязаны
отчасти греческому влиянию. На основании нравственных начал ессеи
первые уничтожили у себя рабство. Они были вегетарианцами и коммунистами,
и на ряду со строгим аскетизмом им удалось выработать некоторый
из лучших сторон современного гуманитарного учения. "Во многих
отношениях,- говорит один из составителей "Encyclopaedia Britannica"
(Британской энциклопедии),- ессеи достигли самой высшей точки развития
во всем древнем мире. Они были справедливы, человечны, добры и отличались
вообще высоким духовным строем".
Римляне по природе были далеко не так человечны, как греки. Их
главное стремление, как воинственного народа, сводилось к тому,
чтобы выработать во что бы то ни стало высокий уровень личной храбрости
и твердости, типичным представителем которых может служить цензор
Катон: и нет сомнения в том, что он не отличался излишнею мягкостью
и человечностью. Язвами Римской империи были рабство и кровавые
представления в цирках; последние в особенности были причиной и
предлогом для невообразимых мучений как людей, так и животных.
Безмятежный стоицизм, который можно назвать религией первых времен
империи, не умел или не хотел восставать против этих ужасов. И все
же, несмотря на эту язву и вызванную ею развращенность понятий,
самая обширность Римской империи выработала в известной степени
в ее гражданах чувства братства и равенства, выразившиеся в более
человечном образе мыслей и более человечных законах.
Известное изречение Теренция: "Homo sum; et nihil humanum
a me alienum puto3 было предвестником
гуманных мыслей, относящихся как к человеку, так и к низшим существам,
и разбросанных в произведениях Лукреция, Цицерона, Вергилия, Овидия
и всех прочих писателей времен Августа. Гораздо более обстоятельно
и последовательно проповедовали учение о сострадании ужо в первом
столетии два философа, один - по-гречески, другой-по латыни.
Рассуждения Сенеки об этике и особенно его статья о "милосердии"
пропитаны гуманитарными чувствами; он осуждал бессердечность рабовладельцев,
бесчеловечное обращение с преступниками, ужасы Колизея и жестокое
обжорство римских богачей.
Плутарх шел еще дальше в этом вопросе и писал об отношениях человека
к животным с сердечностью и глубиной, по которым он далеко опередил
средний уровень понятий нашего времени.
"По-видимому, - говорить Лекки,- он был первым писателем,
проповедовавшим человечное обращение с животными на основании всеобщей
любви, в противоположность Пифагору, выводившему те же требования
из учения о переселении душ... Он настаивает на этой нравственной
обязанности с такой силой и в таких подробностях, какие, мне сдается,
нельзя встретить ни у одного христианского писателя, по крайней
мере, за первые 17 столетий".
Это приводить нас к вопросу о влиянии, которое имело христианское
учение на гуманитарную этику.
Несостоятельность языческих философов происходила в этом вопросе,
как и во всех остальных областях учения о нравственности, не от
недостатка личной мудрости или добродетели., но скорее от отсутствия
в их учениях прямого побуждения, двигательной силы, импульса, вследствие
которых "человечность" перестает быть достоянием избранных,
а делается понятною и возможною и для не столь развитой толпы. Этот
импульс, это побуждение были, в известной мере, даны человечеству
новой религией, которая проповедовала любовь, мир и милосердие по
отношению к людям. Хотя по отношению к животным она и не проявила
широты и последовательности учений Плутарха и Пифагора, но она забросила
в душу человеческую драгоценное семя стремления к бесконечному идеалу.
И дерево, выросшее от этого семени, далеко переросло все языческие
учения. Понятие о неприкосновенности и святости человеческой жизни,
составляющее один из основных догматов первых христиан, повело к
уничтожению, или, по крайней мере, к сокращению большого количества
человеческих страданий. Наконец, самой большой и несомненной услугой
в деле развит человечности является уничтожение кровопролитных представлений
в римских цирках, совершившееся, несомненно, под влиянием христианства.
В средние века, от V до XV столетия, католическая Церковь мало содействовала
распространению каких бы то ни было человечных чувств. Воинственный
и тиранический дух "господствующего" христианства с его
богословским догматизмом, "священными" войнами, жестокими
преследованиями, религиозной нетерпимостью, представляет из себя
прискорбный упадок после любвеобильной кротости первых христиан;
мрачное же направление средневековой мысли составляет печальную
противоположность с человечной философией таких людей, как Сенека
и Плутарх. "Напирая на значение будущей жизни в сравнении с
теперешней,- говорит современный нам писатель, - и отрицая вполне
для низших животных возможность подобной надежды, христиане средних
веков этим самым как бы вытеснили их из круга нашего сочувствия
и положили основание к тому полному равнодушно, которое люди постоянно
выказывают по отношению к ним". Католическая Церковь никогда
достаточно не признавала прав животных: единственно, чем она может
похвалиться в этом направлении - в течение всех средних веков,-
это сказаниями о пустынниках, да и то в большинстве случаев эти
рассказы об укрощении диких зверей людьми приведены в духе узко
религиозного, а никак не нравственного поучения. Исключением в этом
отношении является святой Франциск Ассизский; его глубокое сочувствие
ко всем животным, четвероногим и пернатым, и любовь к ним резко
отличаются от господствующего тона жестокости и равнодушия.
Самое еще отрадное, что мы можем сказать об этих темных временах,
- это то, что монастыри, подобно древним языческим храмам, являлись
убежищем для отверженных; что за уничтожением представлений в цирках
последовало в VII веке запрещение травли диких зверей в зверинцах.
Лишь один бой быков в Испании уцелел до сих пор, как безобразное
напоминание о средневековом варварстве.
Когда по истечении первой христианской тысячи лет перед нами снова
открывается картина культурного прогресса, то мы видим "возрождение"
главным образом в науке и в литературе, а не в области нравственной.
Эпоха возрождения принадлежит "гуманистам", а не "гуманитарианцам".
Эпоха эта была грубая и жестокая, полная кровопролитных войн и разбоя,
истязаний и преследований, жестокости к людям и животным, гнетущих
лесных законов и диких увеселений. Около этого времени стала возникать
торговля неграми: a теория Декарта о том, что животные будто бы
лишены сознания, явилась, со своей стороны, предлогом для безжалостного
обращения с ними.
Но так как между гуманизмом и человечностью - гуманностью все
же существуете бесспорная связь, то и в литературе "Возрождения"
можно найти достаточно признаков вновь возникающей проповеди сострадания.
Мор и Эразм оба порицают жестокость и безумие охоты; человечные
чувства встречаются в изобилии как у Бэкона, так и у Шекспира. Сочинения
же Монтэня подходят по духу своему даже весьма близко к сочинениям
гуманитарианцев XVIII столетия, ибо только в этом столетии мы находим
сознательное и оформленное признание этики гуманности. Как известно,
XVIII столетие было эпохой "чувствительности", возрастающего
сострадания к жертвам войны, голода, мора и насилия. Это была вообще
эпоха более мягкого и человечного настроения, проникающего во все
области жизни. Это настроение сильно выражено, между прочим, в сочинениях
длинного ряда английских поэтов того времени: Томсона, Попа, Гэя,
Гольдсмита, Шенстона, Блэка, Каупера и Бернса. Философы также не
отставали в этом движении, в особенности Вольтер, главный представитель
и проповедник нового учения. "Лишь тот может считаться философом,
- утверждал он, - кто обладаете человечностью - этой добродетелью
над добродетелями". Движение. направленное против торговли
неграми, начавшееся во второй половине XVIII столетия и достигшее
своей цели в 1807 году, было одним из тех человеколюбивых замыслов,
которые, с того времени до нашего, сделали так много для улучшения
условий современной жизни и для усовершенствования различных общественных
учреждений, в которых жестокость до тех пор господствовала почти
не замеченная и ничем и никем не ограниченная. После того, как в
1764 году появилось сочинение Беккария "О преступлениях и наказаниях",
и несколько лет спустя Говард впервые сделал осмотр тюрьмам, - внимание
общества было обращено на без человечность уголовных законов. Понемногу
стало возникать сознание того, что цель законодательства должна
состоять не в унижении, а в исправлении преступника. Сумасшествие,
которое вплоть до XVIII столетия считалось "одержимостью"
или притворством со стороны несчастных больных, стало также вызывать
жалость: вместо того, чтобы сумасшедших сжигать пли сажать на цепь,
как диких животных, с ними начали обращаться, как со страждущими
братьями. Фабричные законы явились также примером (хотя и позднейшим)
более человечных стремлений в обществе. Английские законы о бедных
(Poor Laws) были первоначально задуманы вполне человечно. В настоящее
время они, к сожалению, сильно искажены и имеют в виду главным образом
интересы имущих классов, вследствие чего они составляют один из
прискорбных фактов в общем гуманитарном направлении нашего века.
Это движение не ограничилось попытками улучшить положение человека.
Бентам, один из самых убежденных борцов за права животных, смело
утверждает, что вопрос не в том, "могут ли они рассуждать или
говорить, а в том - могут ли они страдать". В 1822 году английское
правительство издало закон, известный под названием "Martin's
Act", и положило начало новой эпохи в летописи гуманности тем,
что признало за низшими существами право на защиту закона - начало,
которое было с тех пор подкреплено целым рядом подобных узаконений.
Перечислить по именам всех гуманных писателей, принадлежащих эпохе,
где все более или менее были одушевлены этими стремлениями, немыслимо
да и не нужно. Не могу, однако, не напомнить читателям, что в сочинениях
Шопенгауэра гуманитарианизм достиг своего полного философского развития.
В своей "Основе Этики" (Die beiden Grundprobleme der Ethik,
II) он принимает за основание всякой нравственности "безграничное
сострадаше, соединяющее нас со всеми живыми существами". "В
сострадании, - прибавляет он, - мы имеем самое прочное и верное
ручательство нравственности". В этом присущем человеку чувстве
сострадания Шопенгауэр видит источник двух добродетелей - справедливости
и любви, одной отрицательной, другой положительной; одной - удерживающей
нас от нанесения вреда или обиды, другой - побуждающей нас к деятельному
благодеяние. Прав ли Шопенгауэр, приписывая такое отношение любви
и справедливости к состраданию - остается вопросом, но нет сомнения,
что чувство сострадания имеет некоторое родство с чувством справедливости;
жалость, испытываемая гуманитарианцем при виде страданием, обыкновенно
бывает вызвана убеждением (или, по крайней мере, связана с убеждением),
что страдания эти незаслуженны; другими словами, это чувство есть
протест против несправедливости судьбы или людей. Из всего этого
явствует, что гуманитарное движение основывается на врожденном человеку
"сочувствии", и потому оно может быть только подвинуто,
а никак не остановлено эволюционным учением, которое стремится восстановить
на научных основах древнее воззрение Пифагора на единство человека
и природы. "Учете о переселении душ, - говорит Штраус, - является
на Востоке связующим звеном между человеком и тварью и соединяет
всю природу в одно таинственное и неразрывное целое. Замечательно
то, что в настоящее время, среди более развитых народов, стало пробуждаться
участие к животному миpy, находящее себе слабое выражение в обществах
покровительства животным. Это доказывает, что выводы современной
науки, уничтожающее постепенно прежнее отчуждение человека от остальной
природы, совпадают с бессознательным настроением толпы".
II
Таков путь, пройденный гуманитарным движением в прошлом; постараемся
же ознакомиться теперь с современным его положением, с его задачами
и кругом его деятельности. Насколько я могу понять, это движение
основано на инстинктивном чувстве сострадания, - чувстве, либо с
самого начала присущем нашей природе, либо приобретенном человечеством,
но со столь давних пор, что теперь оно в каждом из нас является
прирожденным. Далее мы видим тесно связанное с этим чувством сродное
ему чувство справедливости.
Задача гуманитарианства состоять в том, чтобы, воспитывая в себе
самом доброе, любящее чувство ко всему живущему, защищать все живые
существа от жестокостей и несправедливостей, совершаемых над ними
другими людьми, и смягчать страдания, ставшие уже неизбежным фактом.
Для этого оно должно стремиться к развитию врожденного инстинкта
сострадания и преобразовать его в сознательное и разумное начало.
Никто не может сомневаться в количестве тех страданий, которые
в настоящее время имеют право на наше участие. Более того, приходишь
невольно к убеждению, что по мере того, как чувство сострадания
становится более сознательным, разумным и ясно выраженным, противоположные
чувства жестокости или равнодушия делаются более и более злостными
и трудноискоренимыми. Принужденный отступать перед нападками или
убеждением гуманности - эти чувства вечно готовы искать себе убежище
в умственной софистике. Подобно Протею, страдания принимают новые
облики, по мере того, как мы пытаемся одолеть их путем разума и
человечности. Проклятием одной эпохи является физическое насилие;
вы его побеждаете, и оно вновь возникает в виде давления плутократы.
Человеческая жизнь, защищенная ныне так старательно от грубого разбоя,
медленно подкашивается нищетой, которая, по всей вероятности, влечет
за собой в десять раз больше горя и страдания, чем всякая другая
язва. Мысль о явном кровопролитии приводит нас в ужас, между тем
как голод делает свое смертное дело в наших больших городах, быть
может, медленнее, но столь же верно. То же самое можно сказать и
о страданиях животных. Мы далеко ушли от жестокости древних религиозных
жертвоприношений, римских цирков и т. п., но мы терпим и даже поощряем
ремесло мясника, забаву охотника, занятие вивисектора. Жажда убивать
что бы то ни было, лишь бы убивать, сделалась одной из самых распространенных
затей нашего времени. Горе тому существу, которое ни к чему не "приписано";
не принадлежать никому - положительно считается преступлением. Всего
прискорбнее то обстоятельство, что господство наших высших классов
непосредственно и почти исключительно основано на унижении и порабощены
низших, и что современное общество в своей безумной погоне за богатством
совершенно упустило из виду древнюю римскую поговорку, что "прибыль
для одного есть убыток для другого"4
.
Можно сказать безо всякого преувеличения, что средний состоятельный
англичанин (то же можно сказать и о представителях остальных "цивилизованных"
народностей) обязан своей пищей, своим кровом, своей одеждой и своими
затеями целому ряду страданий людей и животных. II это не по своей
личной вине, не по какой-нибудь исключительной бессердечности, а
вследствие полного равнодушия того общества, к которому он принадлежит.
Для таких людей были написаны стихи Китса:
"Fог them the Ceylon diver held his heath,
And went all naked to the hungry shark;
For them his ears gush'd blood; for them
The seal on the cold ice with piteous bark in eath
Lay full of darts; for them alone did seethe
A thousand men in troubles winde and dark:
Half ignorant, they turned an easy wheel,
That set sharp racks at work, to pinch and peel" .
Против этих и подобных им видов страдания людей и животных гуманитарианизм
восстает, взывая к тому простому чувству человечности, существование
которого оно предполагает (и не без основания) в каждом человеческом
сердце, хотя бы в виде зародыша. И если часто приходится взывать
втуне, то причину неудачи следует искать в отсутствии определенного
и несомненного мерила человечности - ибо для столь многосложного
общества, как наше, недостаточно одного обращения к бессознательному
и полуинстинктивному чувству сострадания.
Много вреда в этом отношении принесло то, что чувствительность
(сентиментальность) так часто смешивается с настоящим чувством.
Большая часть наших так называемых "благотворительных"
и "человеколюбивых" затей исключительно сентиментальны
и только отвлекают внимание и участие от предприятий, движимых гуманитарными
соображениями. Энергия, потраченная в настоящее время на подобную
близорукую и одностороннюю филантропию, может быть привлечена и
приложена к гуманитарным задачам провозглашением разумного и всеобъемлющего
основного принципа милосердия ко всему живущему. Только таким путем
возможно будет победить ту жестокость или, скажем лучше, то равнодушие,
с которым богатые классы столь часто относятся к попыткам помочь
жертвам общественной несправедливости. Ибо, если оставить в стороне
случаи, где проявляется особое раздражение и мстительность, то можно
с уверенностью сказать, что жестокость девяносто девять раз на сто
происходит лишь от недостатка чуткости и участия, иначе говоря,
от недостатка воображения. Жестокий человек потому жесток, что он
не может перенестись в положение страждущего и чувствовать заодно
с ним: не может представить себе достаточно ясно несчастья, которых
он не испытал. Поэтому, чтобы бороться с жестокостью, нужно убедить
человечество усиленно развивать в себе "сочувственное"
воображение. Это уже значительно затрудняется тем, что до сих пор
задачи гуманности являлись в столь туманной, односторонней и непоследовательной
форме.
До тех пор, пока люди будут исключительно настаивать на отдельных
видах человечности, пока они будут чувствовать и выражать жалость
лишь к тому или другому виду человеческих страданий и в то же время
пренебрегать другими, не менее существенными их формами, пока будет
отказано в жалости животным, или пока эта жалость будет обращена
только к некоторым породам животных, - до тех пор будет труден переход
от узкого эгоизма личных интересов к более возвышенному и благородному
чувству всемирного братства. Для меня несомненно, что недостаток
человечности в одной какой-нибудь области непременно должен повлечь
за собой равнодушие ко всему человечеству вообще. Я, разумеется,
не хочу этим сказать, что люди, проявившие жестокость в одном случае,
неспособны проникнуться человечными чувствами - в другом. Наоборот,
одна из моих задач - доказать, что непоследовательность людей в
этом отношении есть непоследовательность вполне наивная и бессознательная,
но вследствие этого весьма трудноискоренимая; ибо человеческий ум
обладает удивительной способностью - вполне ясно понимать какое-нибудь
одно явление и рядом с этим упускать из виду другое, столь же близкое
ему.
В своих "Четырех ступенях жестокости" Игарт изображает
своего героя Тома Неро сперва в виде мальчишки, мучившего собачонку,
потом в виде кучера, истязающего лошадь; далее в виде убийцы своей
возлюбленной и, наконец, в виде трупа преступника, подвергающегося
анатомическому вскрытию. Это, без сомнения, весьма замечательное
и наводящее ужас сцепление обстоятельств, но я сильно сомневаюсь,
чтобы эта картина могла подействовать на существующих в действительности
людей, подобных Тому Неро. Она чересчур отзывается той прописной
моралью, которая проповедует, что детские шалости всегда ведут к
преступлению. Гораздо ближе к истине Лекки, утверждающие, что человеческие
чувства столь непостоянны, что одно и то же лицо может, без сознательного
противоречия, быть и жестоким и, наряду с этим, мягкосердечным.
Как пример, он приводить личность Спинозы, который, будучи одним
из самых кротких и незлобивых людей, забавлялся тем, что ловил мух
и сажал их в паутины, и с другой стороны - Марата, который, несмотря
на совершенно противоположные Спинозе качества, кормил себя голубей.
"Человечный охотник" есть, собственно говоря, "Contradictio
in adjecto", и нельзя без горькой улыбки читать слова Исаака
Вальтона6, который говорит, что он
"по природе не жесток а любить убивать лишь одних рыб".
Однако, в более тесном смысле этих слов - кротость и злость (такова
непоследовательность человеческой души) - часто уживаются рядом
в одном и том же человеке. "Человечных истязаний" не может
быть, но сам истязатель может при случае и в других отношениях проявлять
вполне человечный чувства.
"Между охотниками, - говорит Лей Гунт7, - можно встретить
много милых людей, которые, как говорится, и мухи неспособны обидеть,
то есть на окне; дело иное, когда муха на конце удочки".
Хотя я и признаю в отдельных случаях эту двойственность темперамента,
но все же для меня несомненно, что слишком большая привычка видеть
страдания (каковы бы они ни были) должна, в конце концов, притупить
инстинкт сострадания, и что на человечности не может не отозваться
дурно то, что она направлена исключительно на некоторые излюбленные
предметы. По мнению Бентама, законодательство обязано запрещать
все то, что может развивать ожесточение нравов. Варварские зрелища
в римских цирках, без сомнения, способствовали развитию в римлянах
той дикой жестокости, которую они выказывали в своих междоусобных
войнах. Нельзя было ожидать от народа, привыкшего в своих забавах
ставить ни во что человеческую жизнь, чтобы он уважал ее среди разгара
страстей.
Но настанет время, когда человечность распространить свои лучи
на все то, что дышит. Мы начали с того, что вникли в положение рабов;
мы кончим тем, что облегчим участь тех животных, которые помогают
нам в работах или доставляют нам пищу и другие удобства.
Несколько лет тому назад в газетах появилось описание потрясающей
проповеди, читанной лондонским священником перед нарядной публикой,
о страдальческом существовании извозчичьей лошади. "И велики
были слезы, - говорит корреспондента, - которые лились по роскошным
котиковым шубкам глубоко растроганных прихожанок..."
Вот вам яркий пример той порывистой сентиментальности, на которую
я указывал раньше: с одной стороны дешевая жалость к измученным
лошадям, а с другой - полное равнодушие к столь же несчастному пушному
зверю. Охота за морским котиком, как известно, сопряжена с такими
жестокостями, что даже самые огрубелые рыбаки не сразу могут к ней
привыкнуть. И все же нарядные барыни продолжают носить шубки, шапочки
и муфты из котикового меха, который они поливали слезами, слушая
блестящую проповедь модного священника! И все же (когда слезы пообсохнут!)
их престарелые рысаки будут продолжать поступать в тот разряд извозчичьих
кляч, страдания которых, по-видимому, так расстроили их!
После этого можно ли удивляться, что, невзирая на шум, поднятый
против избиения лесных пташек, услаждающих наш слух своим пением,
- женщины с упорством продолжают носить птичьи трупы или хотя частицы
трупов на шляпах, на головных уборах? Да можно ли их винить за это,
когда до сих пор не создано "несомненного" мерила человечности,
которое бы делало немыслимым подобные отвратительные украшения?
По этим вопросам часто подымаются какие-то бессильные и неосмысленные
крики и возгласы, вроде отчаянного воззвания сэра Артура Гелпс к
нежному женскому сердцу... "Мне кажется, - говорит он, - что
женщины могли бы оказать сильную поддержку этому делу..." Но
что же могут сделать женщины там, где мужчины бессильны? Да и много
ли могут сделать и мужчины и женщины вместе, пока они не выяснили
себе окончательно этого вопроса, и сами в точности не знают, чего
хотят?
Столь же бессильна оказалась и должна была оказаться "мольба
о защите" для низших животных - на том основании, что они "немые".
"Каким могучим побуждением для сострадания является это обстоятельство!"-
восклицает сэр Артур Гелпс. На деле же немыми оказываются не животные,
а люди, и есть основание думать, что подобные клички и эпитеты не
только не побуждают к доброте, а часто имеют совершенно обратное
действие на людей. Ричард Джефферез весьма метко замечает, что слово
"pauper" (нищий) сделалось глубоко безнравственной кличкой.
Точно так же можно найти зловещий оттенок в таких выражениях, как
"скотина", "скот бессловесный", "живой
инвентарь" и т. п.
Указывая на то, каким образом одностороннее проявление гуманности
может задержать развитие разумной философии сострадания, я, конечно,
не могу отрицать, что людьми, избравшими для обличения и преследования
какой-нибудь отдельный вид жестокости, были совершены и доселе совершаются
великие подвиги служения человечеству. Но какова бы ни была близорукость
и односторонность существующих филантропических попыток, все же
лицемерие так называемых "светских людей" еще более поражает
нас. Признавая на деле законность чувства сострадания (ибо нет почти
человека, который бы не поддавался ему или не взывал так или иначе
к этому чувству), они не только не развивают его в себе, но весьма
часто либо осмеивают гуманитарное направление в других, либо противодействуют
ему. Если сострадание не есть действительная добродетель или не
имеет того значения, которое ему приписывают философы и моралисты,
то пусть это будет открыто высказано теми, кто придерживается этого
воззрения, и пусть они составят программу для руководства таким
обществом, из которого сострадание будет исключено. Но если мы продолжаем
верить в значение участья, любви и всемирного братства, то мы обязаны
подвергнуть инстинкт сострадания более систематичному изучению,
чем то, каким оно пользовалось до сих пор. Он заслуживает хотя бы
того, чтобы мы не относились к нему равнодушно, а также, чтобы мы
не проповедовали и не отстаивали его с легкомысленной горячностью.
Зачем нам слепо идти по течению, не управляемыми никаким твердым
началом, ограждая жизнь одной рукой, истребляя ее другой? Провозглашая
неприкосновенность и святость человеческого существования в то время,
когда вокруг нас заведомо мрут братья от нищеты и горя, сентиментально
рассуждая во время прогулки о нашей любви ко всякой твари земной
и небесной - и, вернувшись домой, выражать еще большее пристрастие
к ней, когда она появляется за обеденным столом в ином и более знакомом
нам виде!.. Вместо того, чтобы поощрять в себе тупую бесчувственность,
близкую к жестокости, мы должны были бы развивать в себе более высоте
и отзывчивые нравственные инстинкты, чтобы заручиться неоцененною
помощью той необычайной силы привычки, которая до сих пор была в
постоянной вражде с человечными стремлениями. Человечность, проповедуемая
нами, должна проявляться хоть настолько последовательно, чтобы согласоваться
с нашими инстинктами сострадания (и, во всяком случае, не отставать
от них), насколько эти последние в данное время успели развиться.
Нравственность идет вперед; кругозор ее постоянно расширяется; поэтому
в нашем нравственном развитии не может быть такой точки или ступени,
где ее логичность была бы неуязвима. Мы видим постоянное движение
вперед, и можно с уверенностью предсказать, что наша любовь, наше
сочувствие будут охватывать круги, вечно расширяющиеся, и что никогда
нельзя будет остановиться на окончательном и неизменном мериле этики
гуманности.
Вследствие этого гуманитарианцам, проповедующим дальнейшее распространение
любви, нечего страшиться известного рассуждения, что всему есть
мира, что где-нибудь нужно же будет остановиться и т. п. Пусть люди
останавливаются в своем участии, в своих симпатиях на той крайней
точке (если вообще может быть речь о точке там, где не существует
границ), которая будет им указана врожденным чувством жалости и
сострадания, при условии, конечно, чтобы этим чувствам давали свободно
развиваться и чтобы привычки и предрассудки искусственно не останавливали
их роста. Нужно сознаться, что есть некоторые вопросы, которые настолько
темны и многосложны, что полное их решение должно быть предоставлено
будущим поколениям, так как не настало еще время для обсуждения
с нравственной точки зрения вопросов, не вызывающих покуда в человечестве
определенных нравственных ощущений. Но из того, что весь путь не
может быть совершен сразу, не следует, чтобы мы не должны были сделать
первые шаги на нем. Гуманитарианизм должен бороться с первыми представшими
его взгляду злоупотреблении и не давать себя отпугивать упреком
в том, что он не достиг еще полной последовательности. Эти "ступени"
человечности, которые, не будучи логичными, однако вполне естественны
и неизбежны, указаны, как я уже говорил раньше, нашим инстинктом
сострадания, который возбуждается соразмерно не только со степенью
страдания, но также и с близостью к нам страждущего существа; главное
же - соразмерно со способностью этого существа ощущать страдания.
Чем сильнее развита эта способность, тем неотложнее становится для
последователя гуманитарного учения его обязанность помочь страждущему.
В то же время, я убежден, что поле деятельности человечных чувств
должно постепенно расширяться и понемногу включить в свою область
многое, что до сих пор находилось вне действия любви.
"Есть известное уважение, - говорит Монтэнь,- и общий долг
человечности, которые связывают нас не только с животными, обладающими
жизнью и чувствами, но и с растительным миром. Мы должны быть справедливы
к людям и оказывать милость и благоволение другим существам, способным
отзываться на эти чувства. Между нами и ими существует обмен чувств
и некоторые взаимные обязанности" (Montaigne. Essais. "Sur
la cruaute!")8.
Из этого как бы вытекает, что человечность по существу своему
весьма близка к "любви к прекрасному", так как есть много
сходства между ужасом, охватывающим нас при виде страданий людей
или животных, и негодованием, вызванным в нас бесцельном разрушением
красот природы - рубкой здорового дерева или загрязнением чистой
реки.
Гуманитарианцы не могли бы выбрать себе лучшей "proffesion
de foi" (исповедания веры), чем одно из правых "Общества
святого Теория", основанного Рескиным: "Я не буду убивать
никакое живое существо, ни наносить ему вреда. Не буду также уничтожать
ничего прекрасного; я буду всеми силами стараться сохранять и при
случай спасать невинную жизнь, а также оберегать и совершенствовать
на земле природную красоту..."
Что же должно в конце концов восторжествовать? Человечные ли инстинкты,
преобразовавшиеся мало-помалу в это гуманитарное учение, или же
дикие инстинкты, остатки доисторического варварства, которые побуждают
нас к безжалостному самовознесению, купленному ценою чужих страданий?
Можно сказать без преувеличения, что ответ, который история даст
на этот вопрос, в большей мере повлияет на будущность всего цивилизованного
мира. Наша эпоха всеми признана переходною.
По мере того, как кротость и сердечность будут более и более овладевать
нами, мы будем более и более приближаться к истинной цивилизации,
при которой всякое здоровье и безвредное существование будет находить
возможность развиваться без ограничений и без преград: В этой статье
моя цель была указать на существование естественной связи и естественного
соотношения между различными ступенями человечных чувств, а также
и на то, что, признавая одну из этих ступеней, мы не можем не признать
и остальных.
То, что было высказано мною о значении гуманитарианизма, как учения,
возвышающего душу и ведущего нас к добру, не есть пустое предположение.
Великие перемены не могут быть совершены в один день, и мы должны
с прискорбием признать существование душевных стремлений, идущих
в разрез с теми, которые я пытался выразить. Но в сострадании, будь
оно прирожденный инстинкт или приобретенное качество, мы найдем
(и уже нашли) одну из твердых основ для нравственного учения, -
основу, которая имеет за себя хотя бы то, что она в одно и то же
время и популярна и научна.
Гуманитарианизм сделал много в прошлом для облегчения страдания
и горя, несмотря на все препятствия, которые он встречал на пути.
Он сделает еще больше в будущем, если его основное начало будет
сознательно признано и смело и разумно доведено до последних неизбежных
заключений.
1 - Под словом "гуманитарианизм"
автор настоящей статьи Г. О. Солта подразумевает: изучение и приложение
к жизни человечных начал сострадания, любви, кротости и всеобъемлющего
доброжелательства. И потому гуманитарианизм может быть с успехом
заменен русским словомъ-человечность, понимаемым в самом широком
его значении.
2 - Профессор Магаффи в его сочинении "Общественная жизнь в
Греции".
3 - "Я - человек, я ничто человеческое не должно быть чуждо".
4 - Lucrum sine damno alteruis fieri non potest.
5 - Для них, задержав дыхание, водолаз у берегов Цейлона опускался
на дно морское, окруженный жадными акулами. Из-за них у него уши
наливались кровью; из-за них тюлень с жалобными стонами лежал на
холодном, льду, весь пробитый стрелами, из-за них тысячи людей день
за день терзаются в кипучем омуте страдания и горя.
Не то в неведении, не то в равнодушном ослеплении, они вертят колеса,
которые там, вдали, приводят в движение острые орудия пытки, терзающие
и рвущие на части свои несчастные жертвы.
6 - Автор книги "The perfect Angler" (Совершенный рыболов).
7 - "Table-talk" (застольная беседа).
8 - Монтэнь
- " О жестокости".
Перевод с английского А. Счастной
Издание "Посредника" №756
Москва, 1912
|


 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕГА́НСТВО
ВЕГА́НСТВО  МЕХ
МЕХ СОБАКИ и КОШКИ
СОБАКИ и КОШКИ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Видео
Видео
 Фото
Фото
 Книги
Книги
 Листовки
Листовки
 Закон
Закон
 НОВОСТИ
НОВОСТИ
 О нас
О нас
 Как помочь?
Как помочь?
 Вестник
Вестник
 СМИ
СМИ
 Ссылки
Ссылки
 ФОРУМ
ФОРУМ
 Контакты
Контакты

 ПОИСК НА САЙТЕ:
ПОИСК НА САЙТЕ:









 ВАЖНО!
ВАЖНО!