|
ВИВИСЕКЦИЯ ИЛИ НАУКА?
Пьетро Кроче
© Pietro Croce, Vivisection or Science: An investigation
into testing drugs and safeguarding health.
London - New York: ZED Books Ltd, 1999. - 209 p.
© © Перевод: Анна Кюрегян, Центр защиты прав животных
"ВИТА", 2013-2014
Перевод выполнен с любезного разрешения Тициано Кроче, сына Пьетро
Кроче
Постоянная ссылка: http://www.vita.org.ru/library/philosophy/vivisekzia-ili-nauka.htm
Вивисекция
или наука? Книга известного учёного Пьетро Кроче на русском языке
СОДЕРЖАНИЕ
Что говорят об этой книге
Книга Кроче - это не только классика, но
и смелая работа. Чтобы написать книгу, осуждающую опыты на животных
строго с точки зрения науки и методологии, надо быть очень уважаемым
и мужественным человеком. Доктор Андре Менаш (André Menache),
бакалавр естественных наук, член Королевского Общества ветеринарных
хирургов, президент организации "Врачи и юристы - за ответственную
медицину" (Doctors and Lawyers for Responsible Medicine).
Кроче делает своей темой колоссальный опыт, рост нравственных качеств,
глубокие размышления и весомые доводы. Тема его заложена в заглавии,
и она доказывается в книге. Медицинская наука, действительно рассчитанная
на людей, не может включать в себя экспериментов на животных. Такие
практики представляют собой альтернативу науке, обман, связанный
с медицинским лицензионным правом. У нас до сих пор нет достаточно
четких представлений о том, как люди и животные отличаются: в сходства
верят только подмастерья мага. Уже существуют гуманные методы научных
исследований, которые полностью подходят для удовлетворения человеческих
потребностей и даже, может быть, промышленной алчности. Вопрос закрыт.
Доктор Питер Мансфильд (Peter Mansfield), Национальная Ассоциация
чистой воды (National Pure Water Association), президент.
Много книг написано об этических проблемах и жестокости вивисекции.
Но только в малом их числе речь идет о научных ошибках, которых
происходят вследствие экстраполяции результатов с животных на человека,
особенно когда в качестве моделей болезней, возникающих у человека
естественным путем, берут здоровых животных и намеренно причиняют
им вред. Кто может представить эту перспективу лучше, чем профессор
Пьетро Кроче, который сам долгое время проводил опыты на животных,
пока, наконец, не понял их отрицательные последствия? Профессор
Кроче возражает против вивисекции из соображений науки и убедительно
показывает, что она не имеет ничего общего с истинной наукой. Доктор
Бернард Рамбек (Bernhard Rambeck), Глава биохимического отделения,
Фонд исследований эпилепсии, Германия.
Книга профессора Кроче представляет собой колоссальный вклад. Научная
правдивость, четкость и остроумие - вот ее характеристики. Я настоятельно
рекомендую ее тем, кто хочет знать правду о вивисекции. Доктор Монейм
А. Фадали (Moneim A. Fadali), доктор медицины, магистр хирургии,
член Американского Общества хирургов, член Королевского Общества
хирургов, член Американского Общества кардиологии, член Американского
Общества врачей грудной клетки, автор книги "Эксперименты на
животных: позорная жатва" (Animal Experimentation: A Harvest
of Shame)
Смелая и побуждающая книга, которая, как я надеюсь, осветит множество
проблем и опасностей, возникших из-за нашего доверия опытам на животных
Никто из нас не должен более выбирать игнорирование этого вопроса".
Майкл Мансфильд (Michael Mansfield), королевский адвокат.
Об авторе
Доктор Пьетро Кроче - почётный профессор
патологии в Университете Милана, член Национального Общества патологов,
почётный президент организации "Врачи и юристы - за ответственную
медицину". Он ведущий итальянский исследователь в области медицины
и в течение многих лет возглавлял исследовательскую лабораторию
в больнице Луиджи Сакко в Милане. Благодаря своей международной
известности, он получил разные награды, в том числе Членство Фулбрайта.
Он также работал в исследовательских отделах за рубежом, в Национальной
еврейской больнице, Университете Колорадо и в больнице Толедо, штат
Орайо, а также в Сьюдад-Санаториал в Тарасе, Испания.
Он является автором ряда медицинских трудов на итальянском и испанском
языках. Его самая известная работа, "Vivisezione o Scienza:
La Sperimentzione sull'uomo", в которой после многих лет привычной
опоры на эксперименты с животными, он приходит к выводу, что они
привели к результатам, несостоятельным с точки зрения науки, была
опубликована не только в Италии, но также во Франции и Японии. Настоящая
книга представляет собой переработанное и исправленное издание той
классической работы.
Введение
В этой книге я специально сопоставляю науку
и псевдонауку, с целью вызвать конфликт.
Псевдонаука, как и любая мистификация, порождает усмешки и сарказм.
Такое веселье всегда бывает жестоким. Но, так же, как не следует
смеяться над пьяными, не следует смеяться над маленькой группой
исследователей, которые со всей искренностью настаивают на копании
во внутренностях лягушек, морских свинок, собак, кошек и обезьян,
чтобы найти ответы, связанные с человеческими болезнями.
Но есть и лживые исследователи, а имя им - легион. Это люди, которые
добывают себе дипломы, ученые степени, университетские должности
и, конечно, деньги через внутренности животных. Такова будет тема
в первой части настоящей книги.
Вторая часть посвящена истинной науке. В ней обсуждаются основные
методы биомедицинских исследований, в том числе эпидемиология, математическое,
компьютерное и инвитровое экспериментирование.
Я старался избегать всякого однообразия, которое может помешать
среднему читателю либо непрофессионалу. В то же время потери научной
точности нет, и тем, кто имеет соответствующее образование, она
поможет сделать первые шаги к науке, нуждающейся в радикальном обновлении.
I. Вивисекция: опасности для здоровья людей
1.
Мое прозрение
Раньше я экспериментировал на животных.
В течение многих лет я подчинялся той устаревшей позитивистской
логике, которую мне внушили в университетские годы, и которая меня
в дальнейшем долгое время заставляла верить в постулат: "Научный
позитивизм есть единственно возможная логика в медицинских и биологических
исследованиях. Но утверждать, что человеческий разум способен работать
лишь с одной системой, означает признание невозможности смотреть
больше, чем в одно направление.
Голову мою переполняли идеи, переданные профессорами, почерпнутые
из книг, из больничной практики в Италии и за границей, а я пытался
привести мысли в порядок. Но это напоминало сбор бракованной мозаики
- фрагменты не сходились, картинки получались искаженными, их разделяло
пространство, которое заполнить было нельзя, и мозаика распадалась
при малейшем толчке.
Я осознал, что, наверное, с медицинским мышлением и практикой что-то
не в порядке - неверные исходные условия, подрывающие всю структуру
и искажающие все, что построено на ней - иными словами, методологическая
ошибка.
Вивисекционистское мышление происходит от эмпирической науки, которая
достигла апогея в XIX веке и основывается на отборе и построении
экспериментальных моделей, свободно воспроизводящих явления - объекты
исследования.
Например, два конденсатора, заряженные электричеством положительно
и отрицательно и поставленные рядом друг с другом, производят искру.
Это экспериментальная модель природного явления под названием молния.
Но какой должна быть правильная модель для изучения человечества
и его болезней? Решение кажется очевидным (но именно по этой причине
содержит обман, который полностью его подрывает), а именно, предположение,
что в качестве экспериментальной модели человека следует взять животное.
И тут-то возникает наше первое затруднение: какое животное надо
выбрать? В мире существуют миллионы видов животных - и следует ли
нам взять мышь, собаку, а, может быть носорога или бородавочника?
В физике и механике исследователь проектирует и конструирует экспериментальную
модель, которая обладает характеристиками, присущими цели. С другой
стороны, в биологических науках ученый, берущий животных в качестве
экспериментальной модели, вынужден принимать нечто такое, что уже
сделала природа. Если бы характеристики животного были присущи человека,
это являло бы самой странное и маловероятное совпадение.
Даже выбор между разными видами животных нереален: это нечто наподобие
слепого, но опасного выуживания информации или же - что еще хуже
- беспринципного поиска самого "удобного" животного. Мышь,
кролик, морская свинка удобны, потому что они просты в содержании.
То же самое касается кошек и собак из-за их низкой стоимости. Но
без внимания остается один-единственный элемент, который должен
быть решающим фактором: животное должно иметь морфологические, физиологические
и биохимические характеристики, применимые к человеку. На самом
деле, соответствовать этому критерию может только человек или химера.
Экспериментальной модели человеческого вида не существует. Все виды,
все разновидности и даже отдельные животных отличаются друг от друга.
Предположение, что такое экстраполирование правильно, есть основная
причина неудач, а иногда и катастроф, произошедших по вине современной
медицины, особенно когда речь идет об использовании лекарств. Об
определенных неприятных фактах говорят и пишут очень мало, и происходит
это иногда из-за уважения к науке, которая претендует на звание
"спасителя человечества", но гораздо чаще - из необходимости
не раздражать гигантские экономические и политические интересы,
поддерживающие этого самого "спасителя". Например, в августе
1978 года о процессии по токийским улицам 30 тысяч людей, парализованных
и ослепших из-за клиоквинола, сообщили только японские газеты, а
огласку эта история получила только в результате судебного процесса
и признание фирмы виновной (подробности о трагедии с клиоквинолом
сообщаются в главе
7).
Выпуск "Фармацевтического информационного бюллетеня" ("Il
Bolletino d'Informazione sui Farmaci") за 8 августа 1983 года,
выпущенный итальянским Министерством здравоохранения и имеющий ограниченный
круг читателей, указывает, что "с 1972 по июнь 1983 у 22621
медицинских препаратов отозвали регистрацию (иными словами, их запретили
к продаже). А поскольку лекарства обычно производятся в разных формах
(таблетки, свечи и т.д.), количество медикаментов, изъятых с рынка,
достигло 5 тысяч. Очевидно, все они успешно прошли положенные по
закону опыты на животных.
Другой официальный отчет сообщает нам, что положение вещей ни в
коей мере не улучшается. С 1984 по 1987 число побочных эффектов
от лекарств составило 14386 случаев (разумеется, только зафиксированных),
при этом 112 человек умерли (Miceli, 1981). Сколько лет должно пройти,
прежде чем все признают, что лекарство опасно - и сколько людей
должны пасть их жертвами? На этот вопрос ответил профессор Гофф,
выступая на Конгрессе клинической медицины в Висбадене в 1976 году:
"6% смертельных болезней и 25% всех заболеваний возникли от
лекарств". Профессор доктор Ремнер (Remner) из Тюбингена заявил
на встрече немецких страховых компаний: "В ФРГ ежегодно от
лекарств умирают 30 тыс. человек".
В Италии ситуация тоже неутешительна. Статистики в области здравоохранения
сообщают, что 10% госпитализаций связаны с токсическим эффектом
лекарств, а 30% госпитализированных больных приходится продлять
срок пребывания в стационаре из-за неправильного лечения. А вот
тревожная статистика из Соединенного Королевства: в 1977 году сообщалось
о 120366 случаев токсичных лекарственных побочных эффектах среди
госпитализированных пациентов (Mann, 1984). Что касается США, там
каждую седьмую больничную койку занимает больной, пострадавший от
подобного действия медикаментов.
Мое требование запретить опыты на животных имеет в своей основе
не любовь к животным, а обеспокоенность здоровьем людей. Антививисекционистское
мышление гораздо более научно, чем хвастовство вивисекторов с их
средневековой манерой мышления. Они слишком ленивы и жадны, чтобы
оторваться от удобного послушания и обратиться к научным методам,
проверенных временем (например, к клиническим наблюдениям), которые
в наши дни в значительной мере пренебрегаются, или же к бесчисленным
современным научным методам, таким как культуры тканей и клеток,
математические модели, эпидемиология и так далее.
Таким образом, альтернатив вивисекции множество. Их описано около
450, но теоретически их количество неограниченно, потому что каждое
исследование подразумевает особый для него метод, гарантирующий
надежный результат, который соотносится с научной логикой, легко
воспроизводится и удовлетворяет попперовскому "критерию фальсификации"1.
В вивисекционной методологии все это отсутствует.
Научного прогресса можно добиться лишь малыми шагами. Я бы предпочел,
чтобы эти шаги были крохотными, но надежными. Вивисекторы любят
изображать экспериментирование на животных как короткий путь к биологическим
знаниям, но не говорят, что это кратчайший путь в неверном направлении.
Заявление, что медицина должна развиваться методом проб и ошибок,
неприемлемо. В медицине ошибка означает человеческую жертву - или,
может быть, тысячи таких жертв. Я специально говорю один человек
или тысячи, потому что один представляет такую же ценность, как
и тысячи. Вивисектор говорит: "Но мы работаем для блага большинства".
Неправда! Они не имеют права рисковать одним человеком ради гипотетического
и абсолютно не гарантированного блага других в неопределенном будущем.
16 ноября 1984 года в 5 25 вечера по радио объявили, что Бэби Фей
умерла. "Бэби Фей" - это прозвище ребенка, родившегося
в Калифорнии 14 октября 1984 года с пороком сердца, означающим,
что долго девочка не проживет. 26 октября в Университетском медицинском
центре Лома Линда (University Medical Center of Loma Linda) доктор
Леонард Бейли (Leonard Bailey) пересадил человеческому детенышу
сердце бабуина. Люди протестовали у входа в больницу. Через 21 день
после операции маленькая жертва умерла, и произошло это скорее всего
из-за отторжения.
Бэби Фей оказалась подопытным кроликом в вивисекционном эксперименте.
Изначальной его целью было (предположительно) установить, будет
ли происходить отторжение при уязвимой иммунной системе. Интересное
научное открытие заключается в том, что отторжение произошло, хотя
предсказать это было легко. Но, вопреки научным открытиям, гуманистическая
и медицинская этика тоже должны играть роль, и ради прогресса науки
такие пытки не могут иметь оправдания.
Но сказанным дело не ограничивается. Эта ужасная история имеет продолжение,
поражающее даже на элементарном техническом (я специально избегаю
слова "научном") уровне. По словам самого профессора Бейли,
отторжение происходило не из-за несовместимости сердца бабуина и
тканей ребенка, а так как - это кажется совершенно невообразимым
- его команда не позаботилась о том, что является стандартной повседневной
процедурой на всех станциях переливания крови: они не проверили
на совместимость группы крови донора и реципиента. Позднее выяснилось,
что в Бэби Фей группа крови была О, а у бабуина AB. Профессор Бейли
заявил: "Смешение разных групп крови оказалось смертельным.
Мы больше боялись межвидовых различий, а не крови. Мы сделали ошибку"
("La Repubblica", 13 мая 1987 года).
Как ученый я признаю большой научный интерес эксперимента с Бэби
Фей, но как человек я признаю, что эту маленькую девочку использовали
в качестве подопытного кролика, а те, кто участвовал в этом, должны
ответить по закону. В противном случае всем нам придется согласиться
с извращенной идеей, что цель оправдывает средства.
Давайте вернемся к концепции о методе проб и ошибок. То, что другие
называют "альтернативными" методами, я предпочитаю именовать
"научными". Они научны, потому что наиболее надежны и
минимизируют риск ошибки - то есть, опасность человеческих страданий
и смерти. Как уже упоминалось, существует три основных научных метода:
эпидемиология, математические модели, культуры клеток и тканей ин
витро. Они не гарантируют сенсационно быстрого продвижения, но представляют
собой короткие и безопасные шаги по прямому пути. Часто спрашивают,
почему же их тогда используют так мало. Основная причина состоит
в том, что университеты по-прежнему обучают новые поколения студентов
в духе вивисекции. Они неспособны или не хотят освободиться от слепого
и неэффективного способа мышления: придерживаться старых привычек
проще, чем вводить новшества.
Некоторые вивисекционисты - обладающие более критическим мышлением
- начали сомневаться и искать компромисс. Они признают, что опыты
на животных не дают определенных ответов, но утверждают, что, по
меньшей мере, так появляется указатель в правильном направлении,
поэтому в них есть смысл. Такое указание может быть полезным, но
при одном условии - если оно правильное. Мне в данном случае приходит
в голову образ путешественника, который спрашивает дорогу к церкви
святой Марии. Прохожий неясно указывает в восточном направлении.
Это "указатель", приблизительная информация, которая,
невзирая на свою неполноту, может помочь, если указанное направлении
верное. Но когда прохожий вместо того, чтобы указать на восток (где
церковь расположена на самом деле), показывает на запад или юг,
то информация будет не только неполной, но также и неверной, вводящей
в заблуждение.
То же самое касается и вивисекционной исследовательской методологии.
Она имела бы какой-то смысл, если бы давала путь и неполную, но
правильную информацию. Он она не только не имеет пользы, она сбивает
с толку, потому что может указать верное направление лишь случайно,
а у исследователя нет возможности определить, подтвердится ли удачное
совпадение или нет.
Что же означают термины "случайно" и "совпадение"?
Мы без проблем признаем, например, что вещество, ядовитое для собаки,
может оказаться ядовитым и для человека. Но это может быть лишь
простым совпадением, подчиняющимся только теории вероятностей, и,
соглашаясь с данным утверждением, мы делаем ошибку, которая повлечет
за собой жертвы еще до того, как мы осознаем ситуацию. Пострадавших
от современной медицины очень и очень много - настолько, что целые
научные труды посвящены ятрогенным болезням, то есть, болезням,
которые оказались вызваны докторами, которые, кажется, забыли главный
принцип Гиппократа - не навреди.
Вивисекционные эксперименты на людях - это отнюдь не мрачная фантазия.
Известно, что в наши дни они происходят в крупных масштабах. Даже
многие вивисекторы начинают четко понимать, что экспериментировать
на одном виде животных с целью перенести результаты на другой вид
(межвидовое экспериментирование) - значит совершать методологическую
ошибку. Поэтому они обращаются к внутривидовому экспериментированию,
что означает ставить опыты на собаке, чтобы получить информацию
о собаку, на кошке - чтобы получить информацию о кошке, и на человеке
для получения информации о человеке. Но такой сложный вариант вивисекции,
несмотря на его привлекательность, не гарантирует более надежных
результатов, чем при межвидовом экспериментировании (дальше я покажу,
почему).
Никакой вид животного не может стать экспериментальной моделью для
другого вида, и только те, у кого мышление поверхностное, будут
довольствоваться морфологическими сходствами, типа: "Собака,
как и человек, имеет голову, два глаза, печень, сердце и т.д.".
Столь же примитивно и ошибочно обращение к поведенческим аналогиям,
таким как: "Если я раздавлю лапу собаки, животное завоет -
если я раздавлю ногу человека, он закричит; если я отниму новорожденного
детеныша у обезьяны-матери, она будет страдать - если я отберу новорожденного
ребенка у женщины, она будет страдать".
Эти аналогии существуют, и отрицать их было бы глупо, но почему
они существуют? Имея общие корни, они являются свойством того неизмеримого
и неделимого единства, которое мы называем жизнь. То, что некоторые
типы поведения имеют единый исток, становится ясным, когда мы без
научного пристрастия смотрим на любое живое существо. Поиск пищи,
спасение от опасности, желание продолжать род и другие виды поведения,
которые мы можем удобства ради обозначить как "инстинкты",
представляют собой базовые черты такого явления как жизнь.
Вместе с тем, прежде чем обращаться к материальным компонентам тканей,
принадлежащих разным бесчисленным видам животных, нам надо остановиться
на минуту и задуматься: могут ли два вида считаться аналогичными,
если известно, что ткани каждого вида состоят из тысяч белков (примерно
десяти тысяч), и ни один из них не бывает идентичен у двух видов,
а цепочки ДНК, передающие наследственные характеристики, отличаются
друг от друга у разных видов (молекулы ДНК различаются у разных
животных по длине двойных спиральных цепочек и по количеству и расположению
нуклеотидов, из которых они состоят. Возможных вариантов перестановок
могут быть миллиарды, потому что в человеческой ДНК количество нуклеотидов
составляет, например, три миллиарда.)2
Базовым правилом любого научного эксперимента является его воспроизводимость.
Эксперимент можно воспроизвести, когда он всегда дает идентичный
результат в любое время и при любом исполнителе. Если это не так,
то что-то неправильно. Либо неверна гипотеза, либо его нельзя доказать,
либо же для доказательства избран неверный метод. Следовательно,
нам надо узнать, обладают ли эксперименты на животных (в том числе
и на животном вида человек) воспроизводимостью.
Один ответ дает исследование, проведенное в Университете Бремена
и опубликованное в труде под названием "Проблемы границы эффективности
в фармакологии и токсикологии" (Die Problematik der Wirkungsschwelle
in Pharmakologie and Toxikologie). Исследование показало следующее:
1. При ионизирующем облучении молодые животные реагируют не так,
как животные более старшего возраста.
2. Имеются большие различия в том, как транквилизаторы воздействуют
на молодых животных и на животных более старшего возраста.
3. В тесте ЛД50 (ЛД - летальная доза, этот тест призван определить
дозу, при которой 50% подопытных животных умрут), проведенном
на крысах вечером, умерли почти все крысы; а когда его проводили
утром, то почти все выжили. При его проведении зимой выживаемость
оказывалась вдвое больше, чем летом. При даче токсичных веществ
мышам, находившимся в тесных клетках, умерли почти все, в то время
как все мыши, находившиеся в нормальных клетках, выжили.
Авторы исследования пришли к выводу: "Если столь малые различия
в окружающей обстановке приводят к таким расходящимся и непредсказуемым
результатам, значит, на исследования на животных нельзя полагаться
при оценке химических субстанций, и было бы абсурдно экстраполировать
на человека результаты, которые по сути свой неверны".
Наконец, следует отметить, что вышеупомянутые наблюдения проводились
не антививисекционистами, а сами вивисекторами, которые показали,
к чести для себя, необходимость ограничения методологии, в которую
до тех пор верили.
Примечания
- "Критерий фальсификации", изложенный австрийским
философом Карлом Поппером (Karl Popper), заявляет, что предположение
не является научным, если нельзя также доказать его неправильность.
Например, заявление "через тысячу лет Солнце погаснет"
ненаучно, потому что никто не способен доказать, что это событие
не произойдет.
- Многообразие белков и другим компонентов (главным образом
полисахаридов) у разных видов (как животных, так и растений)
есть основа всех явлений в иммунологии, от аллергии до отторжения
органов.
- Неверное заявление такого рода: "Человек может летать,
размахивая руками", тем не менее, оно содержит попперовский
критерий фальсификации (см. примечание 1), потому что каждый
может продемонстрировать его неверность. С другой стороны, вот
пример заявления, неправильность которого доказать нельзя: "Через
1000 лет Солнце погаснет".
- Эти данные были предоставлены доктором медицины, хирургом,
доктором Вернером Хартингером (Werner Hartinger) из Вальдсхута-Тингена,
Германия.
2.
Современное антививисекционное движение
Движение против вивисекции имело эмоциональный
стимул, а именно, сострадание к животным. Мари-Франсуаза Мартин
(Marie Fran?oise Martin), жена "апостола вивисекции" Клода
Бернара (1813-1878) любила животных и основала Французское антививисекционное
общество в 1883 году (его первым президентом был Виктор Гюго).
Еще раньше антививисекционное общество было основано в Англии в
ответ на статью Джорджа Хоггана (George Hoggan "Morning Star",
1 февраля 1875), молодого физиолога, который в течение четырех месяцев
посещал институт, где директором был Клод Бернар. Вернувшись на
Родину, он назвал директора "сумасшедшим садистом" и заявил,
среди прочего, что "ни один из увиденных мною экспериментов
не был оправданным или необходимым". Хотя в этих словах присутствует
в зачаточной форме современное антививисекционистское мышление,
Джорджа Хоггана все же следует отнести к тем, кто отзывался о вивисекции,
исходя из эмоций, будучи не в состоянии вынести зрелища истязаемых
животных, но, возможно, был склонен принимать "оправданные
и необходимые" эксперименты (Ruesch, 1976). Мы говорим это
не для того, чтобы очернить его - в конце концов, человеческие действия
и чувства следует рассматривать в историческом контексте. Честность
вкупе с интуицией, опережающей время, присущи людям, которые, подобно
Виктору Гюго, способны публично заявить, что "вивисекция это
преступление".
Как общественность отреагировала на эти прогрессивные взгляды? В
лучшем случае, с той благожелательной снисходительностью, с какой
относятся к чудикам, которые вносят краски в однообразную жизнь,
но очень далеки от "пресечения славного прогресса Науки".
Карикатура того время, иллюстрирующая различие между ними, представляла
антививисекциониста в образе маленькой старушки, гуляющей со свой
диванной собачкой в парке, а Науку - в образе великолепной венценосной
благородной дамы, которая поднимает горящий факел, подобно Статуе
Свободы.
До недавнего времени на антививисекционистов навешивали ярлык "эмоциональных,
нерациональных людей" и "врагов прогресса" - нескольких
тщательно подобранных прилагательных достаточно, чтобы низвести
их в царство своеобразного фольклора. Однако в то же время ряд других
тщательно подобранных прилагательных прославлял работу вивисекторов,
которые осторожничали и избегали использования этих неудобных слов
применительно к себе, довольствуясь скромным "благодетели человечества".
Ничто не ново под луною. Пестрый сонм "благодетелей" есть
роковое явление, из-за которого человеческая жизнь с древнейших
времен стала жалким существованием. Священнослужители майя усердно
работали во благо человечества, вырывая у избранных особей вида
человек один орган за другим и умудрялись - с искусностью, поражающей
и в наши дни - держать несчастного живым и в полном сознании на
протяжении часов и даже дней, так что его страдания не пропадали
впустую из-за неуместного вмешательства смерти.
Нынешние "благодетели человечества" сменили белые одеяния
жрецов на белый халат, который в наши дни стал не столько защитной
одеждой сколько символом и разрешением совершать любую жестокость
против природы, животных и прежде всего людей. Эти белые халаты
несут в себе мысль, которую можно если не увидеть, то ощутить: "все,
что мы делаем, - ради вашего блага" и, следовательно: "Позвольте
нам делать все, что мы хотим".
Но давайте вернемся к эволюции антививисекционного движения. В 1890-е
годы произошло внезапное и резкое изменение его курса, которое мгновенно
вывело из равновесия даже многие зоозащитные и антививисекционные
организации. Переменилась мотивация и цель. Новой мотивацией стал
(и поныне является) критический пересмотр медицинских исследований,
при котором происходило беспристрастное и реалистичное разграничение
между декларируемыми целями и истинными, часто скрываемыми. Эти
самыми истинными целями оказывается карьера эксплуататоров, псевдоученых,
занимающихся производством отравы в фармацевтической и косметической
индустрии.
Чтобы понять истинную природу нового антививисекционизма и избегать
старого клише, нам надо прояснить один момент: новых антививисекционистов
не следует уравнивать с любителями животных - хотя они, вполне вероятно,
любят животных. В большинстве своем это эксперты, которые обладают
достаточной проницательностью, чтобы задать себе следующие фундаментальные
вопросы: для кого делаются эксперименты, и какие результаты они
дают?
Как мы видели, Джордж Хогган говорил, что "ни один из увиденных
мною экспериментов не был оправданным или необходимым"; он
мог бы добавить, что "многие из них вредны". Эти заявления
не новы. Новизну представляет способ сегодняшнего использования
их в борьбе с ненаучной и ненадежной методологией. Но и он не совсем
новый, о чем свидетельствуют следующие высказывания.
"Вивисекция вызвала множество болезней, принесла смерть и страдания
тысячам людей" (Вольфганг Бон (Wolfgang Bohn), "Ärztliche
Mitteilungen", #7-8, 1912).
"Никакой экспериментатор не может сообщить ни единого факта
о человеческом заболевании" (доктор Д.А.Лонг (D.A.Long) из
Национального института медицинских исследований (National Institute
for Medical Research), Лондон, 1954 г.).
"Действительно, логического основания, позволяющего переносить
результаты с животных на человека, не существует" (доктор Л.Голдберг
(L.Goldberg), Институт Каролинска (Karolinska Institute), Стокгольм,
1959 год).
"Как я понимаю, идея состоит в том, чтобы с помощью лабораторных
экспериментов на низших животных выявить основные принципы и затем
использовать их при работе с больными людьми. Я имею образование
в области физиологии и считаю себя достаточно компетентным, чтобы
оценить такое заявление. Это полная чушь" (сэр Джордж Пикеринг
(George Pickering), Оксфордский университет, 1964 год).
"Как правило, эксперименты на животных не только не могут обеспечить
безопасность медикаментов, но и действуют обратным образом"
(профессор доктор Курт Фикентшер (Kurt Fickentscher) из Фармакологического
института Университета Бонна (Pharmacological Institute of the University
of Bonn), март 1980 г.).
Это недвусмысленные высказывания, принадлежащие людям, которые занимают
прочную позицию в академическом мире и достаточно умны и честны,
чтобы осуждать его заблуждения. Почему же они не вызвали немедленный
интерес? Ответ прост: потому что они не донеслись до широкой общественности.
Их не услышали за пределами той среды, которая заинтересована только
в их подавлении, которая придерживается тайных ритуалов в духе позднего
язычества и видит в науке современного золотого тельца. Высказывания
Лонга, Пикеринга и Фикентшера имеют в своей основе не любовь к животным,
а критическое отношение к практике, которая бесполезна, опасна и
беспринципна.
Их слова возвещают о зарождении нового антививисекционизма, который
мы называем "рациональным" или "научным", и
который идет бок о бок с антививисекционизмом "эмоциональным",
"имеющим долгою историю" и "основанным на любви к
животным". Между этими двумя позициями противоречия нет: каждая
из них заслуживает уважения со стороны другой, и каждая из них будет
стремиться к воздействию на совесть и сознание как непрофессионалов,
так и тех, кто принадлежит к системе, но хочет лучше понять вопрос.
А прежде всего они должны быть направлены на сознание молодых врачей,
которые собираются вступить в профессию, столь нуждающуюся в новом
Гиппократе.
Возможно, первопроходцы нового антививисекционизма не понимают историческую
и культурную важность своих идей. Вместе с тем, было бы глупо сводить
проблему к двум противоположностям: экспериментировать на животных
или не экспериментировать. Новый антививисекционизм представляет
собой часть огромной и пока что неопределенной всемирной встряски
бесчисленных ложных ценностей, многих пассивно воспринимаемых идей
и многих привычек, которые имеют в своей основе лень.
На то, что влияние нового антививисекционизма увеличивается, указывают
два явления.
Во-первых, правительства начинают демонстрировать признаки понимания
этого нового явления. Они начинают понимать, что отдаляются от значительной
части электората. Они заметили, что люди ищут более широких горизонтов,
которые расширяются от проблемы выживания человека до сохранения
природы и планеты в целом. Из хаоса, который мы не должны подвергать
критике, ибо он есть признак возникновения новой культуры, возникают
ассоциации, лиги, движения, и, что важно, они описывают себя цветами,
пробуждающими природу - зеленым и синим.
Второй признак, который свидетельствует о культурной важности нового
антививисекционного движения, это поддержка, пусть порой и самая
поверхностная, со стороны все большего числа публичных лиц, вроде
актеров.
Какова нынешняя ситуация? Можно отметить, что к опытам на животных
стали прибегать гораздо реже. Должны ли сторонники антививисекционизма
удовлетвориться этим? Могу совершенно точно заявить, что нет. Сокращать
число животных, которых приносят в жертву на фальшивый алтарь вивисекции
- значит забыть истинную цель нашего движения: экспериментирование
на животных - независимо от числа используемых животных - неверно
до тех пор, пока претендует на пользу для человека.
3.
Неправильность вивисекции как биомедицинского метода исследования.
Существуют ли альтернативы вивисекции? Конечно же, нет. И в чем
же тогда цель книги? И почему же многие испытывают ненависть к вивисекторам?
Почему все больше исследователей отказываются экспериментировать
на животных? А как насчет судебных процессов против вивисекторов
и судебных приговоров им? Как всегда в случае с объектами дискуссии,
здесь требуется семантическое разъяснение.
"Альтернатив" вивисекции нет, так как "альтернатива"
подразумевает что-то другое, но столь же ценное; вместе с тем, в
биомедицинских исследованиях вряд ли есть что-то другое равное по
недостоверности опытам на животных. Вот почему те методы, которые
мы предлагаем, следовало бы называть скорее "научными",
чем "альтернативными".
Вивисекторы спрашивают: "Что вы предложите в качестве научных
исследований вместо экспериментов на животных?" Но вивисекция
делает науке сомнительную репутацию даже среди общественности. Поэтому
экспериментаторы должны были бы спрашивать не "Что вы предлагаете
для науки", а более честно: "Что вы предлагаете нам, вивисекторам?".
Конечно, в результате они потеряют легкий способ делать карьеру,
получать научные степени, печатать статьи и зарабатывать деньги.
Еще они утратят возможность втираться в доверие к сильным мира сего,
поддерживая то одно положение, то другое, диаметрально противоположное
- и все на основе "неопровержимых" экспериментов.
В пользу таких аргументов можно привести множество примеров "неоспоримых"
фактов, когда используются всего лишь разные виды животных. Надо
только выбрать "нужный" вид.
• Знаете ли вы, что смертельная бледная поганка - это прекрасный
съедобный гриб? Только им надо кормить кролика.
• Мы хотим разрушить торговлю производителей цитрусовых? Давайте
отравим кошек и кроликов лимонным соком, который мы добавляем
в пищу.
• Хотите ли вы усыпить кого-то? Тогда давайте дадим ему морфин.
Но если мы хотим кошку привести в бешенство? Дадим морфин и ей.
Однако на крыс морфин оказывает то же влияние, что и на человека
- он их заставляет уснуть.
• Если мы хотим продемонстрировать, что синильная кислота (пары
которой могут убить человека) это превосходный аперитив, то давайте
дадим его жабам, овцам и ежам.
• Вам надо убедить людей, чтобы они не ели петрушку? Так дадим
ее попугаю, которого мы найдем на следующее утро лежащим мертвым
под его жердочкой.
• Если мы захотим, чтобы от пенициллина как лекарства отказались,
нам надо всего лишь дать его морской свинке или хомяку - животные
умрут через пару дней (кажется, что смертельное действие пенициллина
на морских свинок и хомяков непрямое, и смерть наступает вследствие
изменений в кишечной бактериальной флоре. Но это не меняет ценности
наблюдения, что одно и то же явление не происходит у разных видов,
включая человека.)
• Обыкновенная тыква вызывает у лошади состояние возбуждения.
• Того количества опиума, которое может без каких-либо проблем
съесть еж, голубь или индюк, самому завзятому наркоману хватит
на две недели.
• Если мы хотим доказать потребителям консервированной пищи, что
ботулинический яд безопасен, то давайте дадим его кошке. И она
оближется. А потом давайте дадим его традиционной жертве кошки,
мыши, и животное умрет, как от удара молнии.
• Малейшая доза ацетата аммония - который используется для вызывания
потоотделения у людей - убьет кролика (Hadwen, 1926).
• Бутлегеры (лица, занимавшиеся нелегальным изготовлением, продажей
или поставками спиртных напитков в годы действия "сухого
закона" в США в 1919-33 - прим. переводчика) вызвали слепоту
у тысяч людей, добавляя в свою продукцию метиловый спирт. Но метиловый
спирт не оказывает воздействия на самых часто используемых лабораторных
животных.
• Авторам детективов хорошо известно, что мышьяк ядовит, зато
на примере овец и ежей видно, что это не так, потому что они могут
потреблять данное вещество в больших количествах.
• Английское название сурьмы - antimony - происходит от французского
слова "antimoine", т.е., анти-монах. В Средневековье
монах-бенедиктинец Базилиус Валентин (Basilius Valentin), родившийся
в Эрфурте и бывший алхимиком во французском монастыре, заметил,
что сурьма при добавлении ее в пойло свиньям способствует набиранию
веса у них. Поэтому он добавил их в суп братьям-монахам - и совершил
массовое убийство.
• Чтобы доказать бесполезность витамина C, нам надо исключить
его из питания собаки, крысы, мыши и хомяка. Эти животные прекрасно
обойдутся без него, потому что у них организм сам вырабатывает
витамин C. Но, разумеется, нам не следует исключать его из питания
морских свинок, человека и других приматов - иначе они умрут от
цинги.
• 100 мг скополамина безвредны для собак и кошек, но 5 мг убьют
человека.
• Стрихнин (наряду с мышьяком, любимое орудие убийц в криминальных
романах) безвреден для морских свинок, цыплят, и обезьян, причем
в количествах, которого достаточно для отравления целой семьи.
• Сладкий миндаль - главный ингредиент марципана - токсичен для
собак, лис и индюков.
• Бориголов, прославившийся из-за смерти Сократа и внешне обманчиво
напоминающий петрушку, нравится козам, овцам, гусям, жаворонкам,
зябликам, лошадям, мышам и дроздам.
• Амилнитрит повышает до опасного уровня внутриглазное давление
у собак, но снижает его в человеческом глазу.
• Хлороформ, уже многие десятилетия успешно применяемый в человеческой
хирургии токсичен для собак, кошек и кроликов, вызывая у них потерю
координации мышц и судороги.
• А-метилдопа повышает внутриглазное давление у человека, но не
оказывает такого же воздействия на животных.
• Глицерила тринитрат (и другие органические нитраты) понижает
артериальное давление у часто используемых лабораторных животных,
но не оказывает такого эффекта на человека.
• Дигиталис сочли опасным, потому что при испытании на собаках
он повышал им кровяное давление. В результате, из-за проверки
на животных использование этого лекарства, столь важного при лечении
некоторых сердечников, опоздало почти на 10 лет.
• Метамизол используется в качестве анальгетика при лечении людей,
но кошек приводит в крайне возбужденное состояние и вызывает у
них повышенное слюноотделение, сходное с тем, что наблюдается
у животных с подозрением на бешенство.
• Фенилбутазон (противовоспалительное лекарство) можно давать
собакам (и другим животным) в больших дозах и часто, потому что
оно быстро утрачивает активность). Но при использовании человеком
в умеренных дозах оно вскоре вызывает кумулятивное отравление,
потому что у людей оно утрачивает активность в 100-150 раз медленнее.
• Антибиотик хлорамфеникол повреждает, иногда серьезно, костный
мозг у человека, но не у других животных. В одной только Британии
с 1964 по 1980 он стал причиной 42 смертей (Venning, 1983).
• Оротовая кислота оказывает благотворное воздействие на человеческую
печень, но вызывает жировое перерождение печени у крыс.
• Хлорпромазин (препарат от психозов) может повредить печень людям,
но не оказывает такого эффекта на лабораторных животных.
• Атропин не токсичен для крыс, голубей, коз и многих пород кроликов
(для тех, которые обладают ферментом атропинэстеразой), но токсичен
для других пород. Он особенно токсичен для человека и может вводиться
ему только в очень малых дозах (0,25-0,5 мг). Более того, он мало
влияет на лошадей, ослов и обезьян - очень распространенных животных
в наши дни, потому что они "так сильно напоминают человека".
• Кролики переносят эрготамин (алкалоид спорыньи - прим. переводчика),
но он токсичен для собак и людей.
• Метилфторацетат токсичен для млекопитающих. Вместе с тем, мышь
способна выдержать дозу, в 40 раз превышающая то количество, которое
убьет собаку. А человек прореагирует так же, как мышь или как
собака?
• Вещества, имеющие в основе органический фосфат (например, дезинфицирующие
средства мипафокс, трихлорфон и диптерекс) серьезно повреждают
нервную систему человека и других животных. Но мышь способна без
вреда для себя выдержать огромные дозы (до 1500 мг на 1 кг массы
тела) триортокрезилфосфата, самого распространенного вещества
из этой группы.
• Нейротрансмиттер серотонин повышает артериальное давление у
собак, но снижает его у кошек (Davis, 1979).
• Кошки могут переносить такое количество изопреналина (аэрозольного
противоастматического препарата), которое в 175 раз превышает
дозу, считающуюся опасной для людей-астматиков (Collins, 1969).
Из сказанного можно сделать следующий вывод: для получения нужных
результатов надо только знать, как выбрать "правильный"
вид животного. Это версия науки, которую можно лепить, как из теста.
Проблемы начинаются с идеи, что из этого теста мы можем испечь полезный
хлеб для людей. Даже непрофессионалу несложно сделать общий вывод
из вышеприведенных примеров - если реакция животных так сильно отличается
от человеческой, то как можно тестировать на них лекарства, предназначенные
для людей? Правда заключается в том, что все живые организмы, как
животные, так и растения, одновременно очень сходны и столь же различны.
Здесь нет противоречия при условии, что мы рассмотрим вопрос с разных
ракурсов.
Живые организмы сходны, потому что все они, от бактерий до людей,
имеют общие химические вещества. Иначе быть не может, потому что
все, живущее на этой планете, получено из нее и, следовательно,
не может содержать более 105 химических элементов, которые существуют
в мире.
Все живые организмы отличаются друг от друга - и различия есть не
только между растениями и животными или разными видами тех и других,
но и между отдельными представителями каждого вида и расами. Различия
между отдельными людьми возникли из-за существования вариаций ферментов,
соответствующим разным реакциям на определенные раздражители. Вот
некоторые примеры.
• Примерно 10% людей белый расы после 20 лет утрачивают способность
переносить лактозу (молочный сахар). Они не больны - они просто
немного отличаются от других.
• Примерно 65% людей фенилтиомочевина кажется горькой на вкус,
а остальные находят ее безвкусной. Почему? Между ними есть некоторое
отличие, но мы не знаем, заключается ли оно во вкусовых сосочках
языка или еще в чем-то в цепи, которая несет раздражитель от периферических
органов чувств к мозгу для осознанной оценки.
• По группам крови население делится на группы A, B, AB и O. Почему?
• Большинство людей не выводят с мочой бета-аминоизомасляную кислоту,
но примерно 8% выводят. Почему?
• Красные кровяные тельца содержат кислую фосфатазу, фермент,
которые обнаружен в организме почти повсюду. Но кислая фосфатаза
неодинакова у всех людей, которые вследствие различий, делятся
на пять групп: A, BA, B, CA и CB.
• Кроме того, красные кровяные тельца содержат два вида углеводной
ангидразы, которую обозначают символами CA-Ia и CA-II. Но некоторые
люди имеют другой вид ее, CA-Ib, а другие - еще один - CA-1c.
• Кровь содержит как минимум 17 видов трансферрина (белка, переносящего
железо), но его пропорции очень различаются у разных людей.
• Альбумин включает в себя 52% белка сыворотки. Но некоторые люди
имеют 2 вида (которые различаются по своей электрофоретической
способности): альбумин А1 и альбумин А2.
• Гаптоглобины это белки, которые связывают гемоглобин, освобожденный
в процессе гемолиза, и, таким образом, не дают ему попадать в
мочу. Существуют шесть нормальных гаптоглобинов, и они присутствуют
у разных людей в разных соотношениях. Вместе с тем, бывают и "ненормальные"
гаптоглобины, из-за которых количество индивидуальных вариантов
значительно возрастает.
• Холинэстеразы - это ферменты, которые гидролизуют сложные эфиры
хлора. У некоторых людей их количество ниже обычного, поэтому
ряд лекарств, таких как мышечный релаксант суксаметон, может им
серьезно повредить.
• Гидразид изоникотиновой кислоты при введении больному туберкулезом
убивает микобактерии, после чего деактивируется и выходит из организма.
Но эта деактивация не происходит с одинаковой скоростью у всех;
у тех, кто дезактивирует его медленно, препарат накапливается
в организме и разрушает его.
Если бы кто-то писал книгу об индивидуальной переносимости/непереносимости
лекарств, то одно только их перечисление заняло бы объем целой книги.
Общую идею можно получить из сказанного. Даже если ограничиться
некоторыми примерами различий, приведенными нами, сколько бы вариаций
вышло?
Статист может сделать подсчеты. Достаточно сказать, что возможных
вариантов насчитывается несколько миллиардов - то есть, среди 5
миллиардов человек, живущих на Земле, двух одинаковых, скорее всего,
нет.
Но вивисекторы ничего не хотят знать о различиях между отдельными
людьми или между видами. Давайте поэкспериментируем с одним видом,
и мы узнаем, что произойдет с другим. Разумеется, вивисекторы говорят
это не столь четко. Одни даже не верят им. Однако действуют они
в соответствии с этими словами. На самом деле, они знают, что результаты
экспериментов на животных нельзя экстраполировать на человека, и
то, что, строго говоря, даже результаты экспериментов на одной группе
людей нельзя переносить на все остальные группы. В отношении вивисектора
к животным прослеживается ясное противоречие. Профессор Р. Райдер
(R. Ryder), британский психолог, вывел на поверхность это противоречие,
представляющее собой удобную защиту для вивисектора. Он сказал:
"На научном уровне экспериментирование основывается на сходстве
между животными и человеком; на уровне этики его оправдывают, исходя
из различий между ними и заявления, что животные не чувствуют боль".
Вивисектор утверждает, что:
- Животные по сути своей сходны с человеком.
- Животные по сути своей отличаются от человека.
В зависимости от конкретного заявления, из сказанного следует,
что:
1. Животные сходны с человеком, когда требуется отстаивать идею,
что через животных можно получить знания о человеке.
2. Животные отличаются от человека, когда надо убедить, что животные
не страдают, не понимают происходящего, не думают - и, следовательно,
с ними можно делать что угодно, не принимая во внимание этику.
Тут возникает естественный вопрос. А на биохимическом уровне различия
между видом и отдельными представителями одного и того же вида столь
же велики, как и на макроскопическом уровне? Вовсе нет - для вызывания
заметных отклонений достаточно минимальных биохимических различий.
В качестве примера давайте возьмем серповидноклеточную анемию. Биохимическая
аномалия, которая вызывает эту болезнь, мала и связана с гемоглобином.
При ней из 572 аминокислот, производящих молекулы гемоглобина, только
одна - глутаминовая кислота - отсутствует, и ее место занимает другая,
довольно похожая аминокислота - Валин. Поначалу это может показаться
не столь значительным. Однако это "несущественное" изменение
молекул может дать следующие эффекты:
1. Некоторые эритроциты у пациентов не имеют нормальной формы диска
- вместо этого они имеют серповидную форму.
2. Если в крови снижается парциальное давление кислорода, то количество
серповидных клеток (дрепаноцитов) значительно возрастает.
3. Присутствие серповидных клеток в больших количествах значительно
увеличивает густоту крови и, следовательно, скорость кровообращения
замедляется, а в результате появляется склонность к ацидозу (понижение
pH). Ацидоз способствует разрушению серповидных эритроцитов.
4. Повышенная густота увеличивает сопротивляемость кровотока в сосудах.
Это увеличивает нагрузку на сердце. Более того, повышенная густота
способствует возникновению тромбов (особенно микротромбов).
5. Серповидные эритроциты более чувствительны, чем обычные эритроциты.
В результате, происходит внутрисосудистый гемолиз (разрушение эритроцитов),
и ему способствует ацидоз. Гемоглобин при освобождении поступает
в мочу (гемоглобинурия).
6. Вследствие непрочности серповидные эритроциты могут быть разрушены
в больших количествах селезенкой и другими ретикулоэндотелиальными
органами (печенью, лимфатическими узлами, стенками кишечника). Помимо
уже упоминавшегося внутрисосудистого гемолиза часто имеет место
гемолиз внесосудистый. Селезенка, которой приходится работать больше,
становится увеличенной (спленомегалия) и фиброзной (из-за микротромбоза,
происходящего вследствие повышенной густоты крови).
7. По той же причине микротромбоз происходит в печени, вызывая ее
увеличение (гепатомегалию), а со временем и фиброз.
8. То же самое происходит в почках, из-за чего снижается их способность
концентрировать мочу. Часто имеет место гематурия (наличие крови
в моче).
9. Сердце страдает как от микротромбоза, так и от повышенной работы,
которая требуется для перекачивания излишне вязкой крови. О напряжении
свидетельствует растяжение всех четырех камер сердца, и оно может
привести к недостаточности клапанов сердца.
10. Аналогичные изменения к центральной нервной системе приводят
к головным болям, спутанности сознания, гемиплегии (параличу одной
стороны тела), афазии (потери речи), временной или постоянной слепоте
и парестезии (ощущении покалывания и жжения в конечностях).
11. Постоянное разрушение эритроцитов приводит к анемии.
12. Если анемия хроническая и имеется с рождения, то она замедляет
развитие организма.
13. Хронический недостаток гемоглобина и, как следствие, гипоксия
(низкая оксигенерация) тканей приводит к изъязвлению кожи ног (из-за
замедленного кровообращения). Это может стать причиной флебита (воспаления
вен) и заражению крови.
14. По этой же причине часто наблюдается характерное распухание
рук и ног, из-за чего возможна дистрофия и изъязвление кожи.
15. Костный мозг из-за необходимости производить повышенное количество
кровяных телец увеличивается. Это происходит за счет костной ткани,
в которой мозг находится. Кость становится похожей на губку и теряет
минералы, ее внешняя часть истончается, возникает склонность к переломам.
У позвоночника появляется склонность к искривлению (из-за давления
пульпозного ядра). В позвоночном столбе и во все костях могут быть
боли.
Все эти опасные последствия происходят вследствие одной-единственной
замены молекулы глутаминовой кислоты на молекулу валина, и изменение
это имеет место в одном-единственном белке.
А теперь давайте задумаемся над следующим. Различия между видами
животных (и между животными и людьми) отнюдь не ограничиваются изменениями
в одном белке, ибо все (ну или почти все) белки одного вида животных
отличны от белков любого другого вида. Таким образом, имеются миллионы
белков, и когда речь идет о белках, то сюда автоматически включаются
и энзимы. Но большинство сторонников вивисекции заявляют, что животные
одинаково реагируют на один и тот же раздражитель.
Наибольшее количество животных используется в тестировании лекарств
- по много миллионов в год, притом разных видов. Эти эксперименты
вознаграждаются наиболее щедро - не только должностями и званиями,
но также и деньгами. Тестирование лекарств производится главным
образом с целью (1) продемонстрировать, что препарат не токсичен;
и (2) продемонстрировать действие лекарства.
Токсичность
То, что лекарство может не принести пользы, имеет лишь малое значение
- в худшем случае его будут считать мошенничеством. Кроме того,
часто некоторое благо от них заключается в том, что они доставляют
удовольствие многочисленным людям, любящим глотать таблетки и прочие
снадобья. О чем следует беспокоиться - так это о том, что оно не
должно быть вредным, иными словами, токсичным. По этой причине,
на животных проводятся токсикологические тесты, но, как мы уже увидели
на предыдущих страницах, в расчет не берутся межвидовые различия.
Еще меньше во внимание принимается следующий факт: токсикологические
эксперименты почти всегда производятся на здоровых животных, а лекарства
получает больной человек. А ведь болезнь свой сущностью изменяет
метаболизм лекарств. Например, из-за повышенной температуры многие
лекарства становятся более токсичными для организма, болезни печени
уменьшают ее способность нейтрализовать опасные вещества, а многие
болезни почек замедляют выведение из организма посторонних субстанций,
таких как лекарства и их побочные продукты.
Иммунопатии (болезни иммунной системы) подавляют реакцию почти на
все аллергены. При врожденном нарушении метаболизма вещество, которое
в обычных условиях безвредно, может оказаться токсичным. Ни одно
из этих заболеваний не встречается у подопытных животных, а если
все же встречается, то имеет иные формы и последствия.
Эффективность
Большинство человеческих болезней не встречаются у животных. Так
каким же образом на животном можно продемонстрировать эффективность
лекарства, которое призвано лечить то или иное заболевание у человека?
Если болезнь не возникает у животного естественным путем, то ее
надо вызвать искусственно. Это относительно просто в случае с инфекционными
заболеваниями - но чревато ловушками. Основной подводный камень
заключается в том, что каждый вид реагирует на одну и ту же инфекцию
по-разному. Вот некоторые примеры.
• Обезьяны (за исключением бабуинов) являются врожденными носителями
обезьяньего вируса B, который может вызвать раздражение слизистой
оболочки, напоминающее безобидное воспаление горла при простуде
у человека. Но тот же самый вирус (который передается через укус
обезьяны или при попадании на рану слюны) вызывает у людей серьезное,
часто смертельное заболевание.
• Вирусы оспы и желтой лихорадки не поражают ни одно известное
животное.
• Кролик в большей степени подвержен коровьей Mycobacterium tuberculosis,
а не человеческой Mycobacterium TB. У морских свинок ситуация
диаметрально противоположна. Но и у кроликов, и у морских свинок
туберкулез не имеет никаких характеристик, общих с туберкулезом
человека.
• Mycobacterium leprae (которая вызывает проказу, или болезнь
Гансена) способна жить только в одном биологическом виде, помимо
человека - у армадилло (броненосца). Вместе с тем, он не инфицируется
спонтанно.
• БЦЖ, линия Mycobacterium tuberculosis (коровий вариант) используется
вследствие своей относительной безвредности в качестве вакцины
от туберкулеза. А если ее ввести золотистым хомячкам, то у них
она вызывает туберкулез, от которого животное умирает в течение
10-14 месяцев.
• Treponema pallidum вызывает сифилис только у людей. У обезьян
она вызывает острое заболевание, которое, однако, в корне отличается
от человеческого.
• Actinomyces bovis у крупного рогатого скота вызывает грибковое
кожное заболевание, а у человека - серьезное заболевание внутренних
органов. У лабораторных животных его удается вызвать с трудом
и только при определенных условиях. Большинство других грибков
не создают спонтанных болезней у наиболее распространенных лабораторных
животных. А чтобы они все-таки сделали это, их надо сначала ввести
в очень чувствительные области, такие как брюшина, или в обладающие
пониженной реактивностью, такие как центральная нервная система.
Таким образом ведут себя Nocardia, Blastomyces dermatitidis, Blastomyces
braziliensis, Coccidioides immitis (очень патогенная для человека),
Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Geotrichum candidum,
Sporotrichum schenkii и Mocoralaes.
• Известно, что ни одно животное не подвержено хромобластомикозу,
болезни, возникающей у человека от разных грибков, среди которых
Hormodendrum compactum и Phialifora verrucosa.
• Тревожные различия обнаружены в том, как по-разному реагируют
разные млекопитающие на паразитических многоклеточных. И что делать
с тем, каким образом эти паразиты выбирают разного хозяина для
каждой фазы своего развития? Примером служит Dicrocoelium dendriticum,
печеночная трематода, которая во взрослой стадии живет в кишечнике
травоядных, например, скота, а иногда у человека. Она часто встречается
в Восточной Европе и России, реже в Африке, Азии, Северной и Южной
Америке. Взрослый червяк имеет длину 5-15 мм и ширину 1,5-2,5
мм. Яйца идут вместе с экскрементами в воду, там они попадают
к улитке, в которой после двух метаморфоз становятся личинками
(церкариями). Церкарии откладываются в траве, и там их съедают
муравьи. В муравьях они проходят дальнейшее развитие, чтобы стать
метацеркариями. Потом травоядное животное (а иногда порой и человек)
съедает муравья вместе с травой. В травоядном (или в человеке)
она становится взрослым червяком, и цикл начинается по-новому.
Таким образом, Dicrocoelium во взрослом состоянии существует у
хозяев одного вида, а ее личинки адаптированы к жизни в других
видах. Пример Dicrocoelium свидетельствует о том, что разные животные-хозяева
не имеют сравнительной ценности, потому что являются хозяевами
лишь на одной стадии развития паразита.
• Даже блохи способны делать различия между животными. Человеческая
блоха это Pulex ittitans, но кошачья блоха это Ctenocephalides
felis, а собачья - Ctenocephalides canis. Последние два вида кусают
человека лишь эпизодически, да и то по ошибке.
Пока что мы говорили об инфекциях и паразитических заболеваниях.
Вводя животным патогенных возбудителей, исследователь пытается получить
модель человеческой болезни. В результате, вызвав у животного инфекционное
заболевание, которое отличается от человеческого, экспериментатор
пробует лекарства, чтобы вылечить ее. На данном этапе количество
ошибок увеличивается в геометрической прогрессии.
Ошибка, которая заключается в изучении искусственно созданной болезни,
усложняется лечением этой болезни при помощи лекарства, которое
в организме животного будет усваиваться совсем не так, как у человека.
Действительно, оно отличается в том, что животное может погибнуть
еще до того, как его убьет инфекции (так происходит при даче морским
свинкам пенициллина). Разница выражается и в том, что лекарства,
используемые для борьбы с инфекцией, действуют не в отдельности,
а вкупе с естественной защитой. Например, большинство антибиотиков
не только останавливают размножение определенных бактерий, но также
стимулируют фагоцитоз, то есть, повышают способность определенных
клеток (белых кровяных телец - лейкоцитов и макрофагов, присутствующих
в крови, лимфе и соединительной ткани) атаковать и разрушать микроорганизмы,
заглатывая их.
Вместе с тем, способность к естественной защите варьируется, в зависимости
от вида. На это указывают разные пропорции, в которых разные фагоцитарные
элементы присутствуют в крови и тканевых жидкостях у разных видов,
и отсутствие определенных жидкостей у некоторых видов. Например,
рыбы и другие животные, которые находятся еще ниже по шкале эволюции,
не обладают нейтрофильными лейкоцитами, и защиту от инфекций у них
производят мононуклеарные клетки, аналогичные моноцитам и макрофагам
у млекопитающих.
В борьбе с инфекцией антитела прикрепляются к лейкоцитам. Существуют
природные антитела, которые передаются по наследству, и приобретенные
антитела, которые образуются в результате соприкосновения с микроорганизмами
или агрессивными субстанциями под названием антигены. О наличии
приобретенных антител свидетельствует гиперактивность, которая призвана
устранить или нейтрализовать чужеродную субстанцию. Но в случае
превышения определенного уровня аллергия проявляется в виде болезней,
таких как бронхиальная астма, сенная лихорадка, аллергический насморк
и конъюнктивиты, крапивница, узловатая эритема (воспаление кожи
ног) и экземы. У животных, как и у людей, контакт с антигенами вызывает
формирование антител. Есть даже подозрение, что у людей аллергические
реакции на некоторые лекарства могут быть связаны с потреблением
в пищу мяса животных, получавших те же самые лекарства. Это может
объяснить, например, аллергическую реакцию на пенициллин у тех людей,
которые пенициллин никогда не получали. Вместе с тем, даже при помощи
самых тщательных методов у животных нельзя воспроизвести аллергию,
сходную с той, которая встречается у многих людей. Почему? Ведь,
по идее, разные физические реакции всегда должны быть выражением
более серьезных биохимических, неврологических и психологических
различий?
Давайте сейчас отвлечемся от инфекций, которые не поражают животных
(либо поражают иначе, не так, как человека), а также от иммунологических
явлений, которые у животных никогда не сходны с аллергическими реакциями
у человека, и сосредоточим внимание на другой сфере, где животные
отличаются от человека, а именно, на коллагенопатиях.
Они включают в себя широкий спектр проявлений, начиная от редких,
но смертельных болезней (таких как системная красная волчанка или
гранулематоз Вегенера), до распространенных заболеваний, которые
влияют не столько на продолжительность жизни, сколько на ее качество,
такие как артериосклероз и остеоартрит. Некоторые рассматривают
пожилой возраст как коллагеновую болезнь, потому что у людей старшего
возраста коллагеновые ткани всегда оказываются изменены, по сравнению
с тканями более молодых людей.
Коллагеновая ткань имеется в организме почти повсюду - она подобна
нитям в ткани, без которых невозможно ее сплести. Когда она изменяется,
это ухудшает функциональную способность всех органов и тканей. Если
бы существовала возможность избежать старения коллагена, это продлило
бы жизнь. Поэтому надо найти экспериментальную модель.
На как можно создать, скажем, модель артериосклероза? С помощью
собак? Их надо кормить пищей, богатой холестерином или, наоборот,
той, в которой холестерина мало? Жирной или маложирной пищей? Их
надо перекармливать, чтобы у них печень оказывалась на грани разрыва
или наоборот, недокармливать, чтобы они голодали? Может быть, превращать
их в алкоголиков или травить табаком? Пичкать витаминами или, наоборот,
лишать витаминов? И что нам следует ожидать? Собаку с артериосклерозом?
На такие собаки уже существуют - в старости у собаки возникает артериосклероз.
Те, кто считает, что сможет понять артериосклероз у человека через
экспериментирование на животных, будет весьма раздосадован после
изучения биохимических характеристик болезни. Они ищут факторы,
которые вызывают развитие заболевания или способствуют ему; они
так упрямо обвиняют питание, что начинают напоминать некоего ипохондрика,
твердящего гурману: "Кушай, кушай - скоро пожалеешь об этом!"
Вместе с тем, если они попытаются решить вопрос через опыты на животных,
то обнаружат следующие факты:
- У человека основной виновник артериосклероза - холестерин -
эстерифицируется главным образом олеиновой и стеариновой кислотой
у человека, но у крыс прежде всего арахиновой кислотой.
- Низкокалорийная диета полезна для человека, но ухудшает состояние
кроликов при артериосклерозе, возникшем естественным путем.
- Атеросклеротические бляшки (дегенеративные жирные отложения
на стенках артерий) у человека содержат высокий уровень холестерина
и других липидов, но бляшки, откладывающиеся естественным путем
у кошек и крыс, содержат относительно низкий уровень этих веществ.
Пенистые клетки (клетки цитоплазмы, наполненные липидами) человеческих
бляшек представляют собой "измененные" гладкие мышечные
клетки, но пенистые клетки в бляшках у морских свинок - это моноциты
(разновидность белых кровяных клеток), которые фагоцитировали
(или поглотили) липиды. А у собак бляшки состоят из гладких мышечных
клеток без (или почти без) липидов. Более того, у собак стенка
артерии за бляшкой практически не изменяется, а у людей она меняется
серьезно. У собак в первую очередь поражаются небольшие артерии,
а у человека - аорта (первые признаки бляшек были обнаружены у
17-летних подростков)
- Питание, богатое жиром, не вызывает артериосклероз у крыс, но
у человека - вызывает. У последнего болезнь прогрессирует до гипертонии.
У крыс излишний жир накапливается главным образом в печени, а
у человека - в артериях.
- Вещества, которые привлекают наибольшее внимание при изучении
артериосклероза, - липопротеины, но у человека преобладают липопротеины
очень низкой плотности и липопротеины низкой плотности. Легко
понять, как вышеупомянутые (и другие) трудности обманут всякого,
кто ищет объяснение человеческого артериосклероза в артериях животных.
- Животные также выставляют нас в роли идиотов, когда с помощью
определенных лекарств для лечения артериосклероза мы пытаемся
продлить свою жизнь, сокращая при этом ее продолжительность им
- и без каких-либо веских оснований. Одним из таких лекарств является
клофибрат, который не только абсолютно безопасен для некоторых
животных, но и снижает у них холестерин в крови примерно на 20%
- большой успех. В результате, лекарство стало раскупаться тоннами.
Но у людей оно снижает уровень холестерина очень незначительно,
зато повышает риск сердечных приступов и повреждений печени, желчного
пузыря и желчных протоков, порой со смертельным исходом14.
Есть еще такая болезнь как остеоартроз. Почему в суставах происходит
такая болезненная деформация? Вивисекции пытаются имитировать человеческие
деформации, используя собак, овец, кошек, свиней, для этого им бьют
суставы молотком, вывихивают их, облучают, вводят раздражители.
Невероятно, но у вивисекторов столь убогое понимание биологии, такая
примитивная идея о жизни, и они не понимают, что все эти пытки вызывают
только переломы, кровоизлияния, тромбозы, ушибы и воспаления - что
угодно, за исключением адекватной модели человеческого остеоартроза,
являющегося местным проявлением общего коллагенового нарушения.
Тем не менее, пытки продолжаются. А почему? Потому что количество
животных, используемых в исследованиях, прямо пропорционально количеству
лекарств с надписью "против артрита" - и, соответственно,
прибыли от них. Их много, продаются они очень хорошо, но их производители
все недовольны.
Инсульт или удар это болезнь, которая грозит людям внезапной смертью
или серьезными двигательными и сенсорными нарушениями, особенно
в пожилом возрасте. Он происходит в результате разрыва или блокировки
(тромбоз или эмболия) мозговой артерии, что влечет за собой ишемию
(отсутствие крови) и некроз (омертвение ткани) в той части мозга.
Исследователи считают, что у животного можно воспроизвести то, что
у человека происходит спонтанно и обычно внезапно; для этого животным
посредством хирургического вмешательства перекрывают артерии в мозгу.
Но и в данном случае результаты у человека и животного различаются
кардинальным образом - не только потому, что у животных изменения
происходят искусственным путем, но и вследствие того, что системы
кровеносных сосудов в мозгу животного и человека кардинальным образом
отличаются. У многих видов животных (особенно у собак) сосудистая
система мозга имеет больше коллатеральных и анастомотических (соединяющих)
артерий, чем у людей - то есть, находящиеся рядом сосуды соединяются
друг с другом, что дает им возможность взять на себя работу заблокированных
или поврежденных сосудов. Таким образом, у животных коллатеральное
кровообращение компенсирует блокировку мозговых артерий гораздо
эффективнее, чем у людей. Более того, у многих животных эмболии
(перекрытия) мозговых артерий представляются почти невозможными
из-за rete mirabilis arteriosa, системы крохотных сосудов, которые
фильтруют вещества, свертывающие кровь, и разные чужеродные тела
- твердые, жидкие и газообразные.
А какова анатомическая картина у приматов - обезьян, которые так
сходны с нами? Здесь ряд фактов тоже сводит на нет эту похожесть
- с позиции биологии сравнение здесь было бы слишком примитивным.
Мы говорим об анатомическом и, следовательно, точно выраженном различии:
у приматов имеется обширная анастомотическая (соединяющаяся естественным
путем) система линзообразных клеточных ядер между латеральными и
медиальными артериями, которые представляют собой автономную нервную
систему. У человека ничего подобного нет.
Примечания
- Мы используем термины "вивисекция" и "экспериментирование
на животных" в качестве синонимов. Вивисекторы не любят термин
"вивисекция" из-за его эмоциональной коннотации. С другой
стороны, это исторический термин, ведущий свое происхождение от
основоположника вивисекции, Клода Бернара, и даже сегодня словари
используют его в качестве синонима "экспериментированию на
животных. Его латинские корни - vivi (живой) и secare (резать).
Американская энциклопедия (The American Encyclopedia): "Вивисекция:
любая форма экспериментирования на животных, независимо от того,
включает ли она препарирование или нет". Английский словарь
Мэрриам-Вебстер (Merriam-Webster Dictionary): "В широком
смысле любая форма экспериментирования на животных, особенно если
она предполагает причинение страданий объекту". Большой немецкий
словарь иностранных слов (Der Grosse Duden - Fremdworterbuch):
"Vivisection: Eingriff am lebenden Tier (zu Wissenschaftlischen
Zwecken)". - "Оперирование живых животных с научными
целями". Медицинский словарь Блэкстона (Blakiston's New Gould
Medical Dictionary): "Вивисекционист - тот, кто практикует
и отстаивает экспериментирование на животных". Малый Ларусс
(французский энциклопедический словарь издательства Ларусс - La
Petit Larouse): "Vivisection… Operation pratiquée
sur un animal vivant, pour l'étude de phénomènes
physiologiques". - "Операция, проводимая на живом животном
для изучения физиологических явлений". Толковый словарь испанского
языка (Diccionario Manual de la Lengua Espanola): "Viviseccion:
Disseccion de los animals vivos". - "Рассечение живых
животных". Всемирная Коалиция против экспериментирования
на людях и животных (Coalition mondiale contre l'expérimentation
sur l'homme et sur l'animal): "Vivisection: toute operation
d'éxperience sur l'ètre vivant, home ou animal, qui
porte atteinte a titre équilibre physiologique et a l'intégrite
de son organisme". "Любая операция или вмешательство,
которая не является лечебной для задействованного субъекта, практикуется
на живом существе, человеке или животном и нарушает физиологическую
стабильность и целостность организма".
- Оценивая токсичность лекарства, всегда следует принимать во
внимание взаимосвязь между дозой медикамента и массой тела животного.
Таким образом, кошка (средняя масса тела - 4 кг) вынесет без каких-либо
очевидных отрицательных эффектов 100 мг скополамина, что эквивалентно
25 мг на 1 килограмм массы тела. Это эквивалентно дозе примерно
в 1,800 мг у человека (средняя масса тела - 70 кг), что в 360
раз превышает количество, которое человек может вынести.
- В артериальной гипертензии важную роль играет норадреналин,
гормон из надпочечников. Он образуется из дигидроксифенилаланина
(допы), при этом последовательность выглядит следующим образом:
допа - допамин - норадреналин. Альфа-метилдопа блокирует эту последовательность,
действуя конкурентно на фермент л-аминодекарбоксилазу, который
препятствует выработке норадреналина и вместо этого производит
метилнорадреналин, менее активный, чем норадреналин. Этот механизм
четко продемонстрирован при работе ин витро. Но при работе с животными
альфа-метилдопа кажется неэффективной. Тем не менее, доктор Джон
Оутс (John J. Oates) проигнорировал эти результаты и перешел к
клиническим испытаниям на людях. Так был спасен ценный медикамент
для лечения гипертонии у людей.
- Дигиталис был впервые использован в качестве диуретика Уильямом
Уизерингом (William Withering) в 1785 году. По сути дела наблюдаемое
мочегонное действие было побочным эффектом наблюдавшегося после
приема лекарства улучшения работы сердца (его влияние на фибрилляцию
предсердий было продемонстрировано Маккензи (MacKenzie) в 1905
году). "В результате опытов на животных мы читали, что дигиталис
повышает кровяное давление. Сейчас мы знаем, что это совсем не
так. Дигиталис это очень полезное лекарство в определенных случаях,
когда кровяное давление очень высокое" (Бурнетт, 1942).
- Козы могут без вреда для себя съедать растение Atropa belladonna
из семейства Solanaceae. Его листья и корни содержат гиосциамин,
который при определенных условиях становится изомером атропином.
- Ферменты - это катализаторы химических реакций. Они действуют
в очень малых количествах и вызывают реакции (не принимая в них
участия), которые в противном случае происходят очень медленно
или в результате использования больших количеств энергии. Например,
распространенной реакцией во всех животных клетках является окисление
глюкозы. Для окисления этой глюкозы вне организма требуется повышенная
температура или использование активно действующих оксидантов,
в то время как в клетке (благодаря энзимам) окисление глюкозы
происходит при низкой температуре (у млекопитающих примерно при
37 градусах, а у хладнокровных животных уже при 4-5 градусах).
Энзимы это белки. И они утрачивают активность примерно при 60
градусах. Все органические реакции контролируются, ускоряются
и замедляются энзимами.
- Дрепаноцитоз (от греческого слова threpanon - серп, латинского
cyto - клетка), или серповидноклеточная анемия - это болезнь крови,
которая чаще всего встречается в субтропической Африке, но также
бывает в Греции, Италии, Турции, Индии и на Аравийском полуострове.
На американском полуострове ею страдают 9% чернокожего населения.
- Сходство между глютаминовой кислотой (А) и валином (B) очевидно
из их химических формул:
|
(A) COOH
|
CH2
|
CH2
|
CH-NH2
|
COOH
|
(B) CH3
|
CH-CH3
|
CH-NH2
|
COOH
|
- Парциальное давление кислорода в артериальной крови составляет
примерно 100 мм ртутного столба, а в венозной - примерно 40 мм.
Есть тенденция предполагать, что серповидная форма красных кровяных
телец имеет место у пациентов с серповидноклеточной анемией, когда
парциальное давление понижено примерно до 45 мм - такая ситуация
происходит даже в нормальных условиях в венозной крови. Парциальное
давление кислорода в крови может понизиться при вдыхании разреженного
воздуха (например, высоко в горах), при серьезных и длительных
физических нагрузках или в результате легочных заболеваний, которые
подавляют оксигенирующую функцию дыхания.
- 10. Слово "токсичный/отравляющий" можно определить
как сокращающий жизнь или влияющий на ее качество. Однако, идея
токсичности тесно связана с количеством/дозой. Многие лекарства,
такие как дигиталис, строфантин и атропин, не токсичны: напротив,
они благотворны при условии, что используются в очень малых дозах.
Например, если кислород вдыхать при давлении более чем в 20 атмосфер,
то он убивает за несколько минут. Естественная пища (белки, жиры,
углеводы) при потреблении в избыточных количествах ведет к ожирению
и таким образом оказывается "токсичной" (действительно,
ожирение сокращает жизнь). Токсичность, помимо дозировки, связана
еще и со временем. Например, синильная кислота убивает за несколько
секунд, мышьяк - за несколько часов или месяцев (в зависимости
от дозировки), а табачный дым - в течение многих лет. Так мы делаем
различие между острой токсичностью и хронической токсичностью.
- Термин "лабораторное животное" весьма нечеток. Любое
животное - это потенциально лабораторное животное, но критерии
выбора основываются не столько на научной мотивированности, сколько
на цене и удобстве. Если бы появились научные доказательства того,
что биохимические реакции наиболее сходны с происходящим в организме
человека у носорога, стал бы он самым часто используемым лабораторным
животным? На самом деле, чаще всего выбирают тех животных, которые
стоят дешево, мало весят и не кусаются - отнюдь не научные мотивы.
- Вот что сказал об открытии пенициллина сэр Говард Флори (Howard
Florey), разделивший Нобелевскую премию с Флемингом (Fleming)
и Чейном (Chain): "К счастью, в первоначальных тестах на
токсичность мы использовали мышей, потому что если бы мы использовали
морских свинок, то сделали бы вывод о токсичности пенициллина"
(Florey, 1953).
- На самом деле, настоящий артериосклероз у старых собак встречается
редко и в любом случае не напоминает человеческую болезнь. Единственное
животное, у которого бывает нечто напоминающее человеческую болезнь,
- это свинья. Поражения артерий, сходные с человеческими, были
обнаружены у 80-летнего попугая и 106-летнего попугая-какаду.
- В Италии лекарства, содержащие клофибрат, были сняты с продажи
в 1979 году, но они все еще продаются в Соединенном Королевстве.
- Во время лекции в Институте клинической ортопедии и травматологии
Университета Рима выдающийся профессор согнул вдвое спины живых
собак перед потрясенными студентами, чтобы продемонстрировать,
каким образом позвоночный столб трещит под определенным углом.
В данном случае наше негодование, возможно, будет направлено в
меньшей степени на несчастную жертву столь отвратительного садизма
и в большей на студентов, которые хоть и были шокированы, но ничего
не сделали, чтобы остановить происходящее.
4.
Рак: удачный пример
Все позвоночные подвержены раку1.
Чтобы использовать их в качестве естественных экспериментальных
моделей, было бы необходимо задействовать несколько сотен собак
или кошек или морских свинок или мышей или кроликов и ждать, пока
болезнь разовьется спонтанно. А что же делают исследователи? Они
создают модель, вызывая у животного рак посредством инъекции или
другим путем, химическим или физическим. Но животное мстит, завлекая
нас в лабиринт совершенно иных реакций. Одна и та же канцерогенная
субстанция дает разные результаты не только у разных видов, но и
у разных линий одного и того же вида. Еще больше осложняет ситуацию
спонтанное развитие рака, особенно у некоторых животных. Например,
по прошествии 25 месяцев от 20 до 60 процентов мышей (в зависимости
от линии) спонтанно заболевают раком.
• У линии мышей C3HF уретан вызывает гепатому, опухоли ретикулоэндотелия
и рак легких (Liebelt, Liebelt and Lane, 1954). У линии мышей
C57B1 уретан вызывает лимфому вилочковой железы (Doell and Carnes,
1962). Для человека уретан является эффективным средством при
лечении лейкемии.
• Диметилбенз(а)антрацен вызывает лимфомы у мышей "швейцарской"
линии (Pietra, Rappaport and Shubik 1961), но провоцирует развитие
бронхиальных аденом (доброкачественных опухолей) у линии мышей
"Strong A" (Flaks, 1965) и опухолей печени у других
линий мышей, но только у самцов.
• Канцерогенные для человека бензол и мышьяк не являются таковыми
для какого-либо вида грызунов, регулярно используемых в лабораториях.
• 2-нафтиламин вызывает рак мочевого пузыря у человека, но не
вызывает никаких онкологических заболеваний у мышей.
• Бензидин вызывает рак мочевого пузыря у людей, а у мышей - неврому
слухового нерва, рак кишечника и печени.
• Четыреххлористый углерод (CCl4) у мышей вызывает рак печени,
а у крыс - цирроз печени.
• 4-аминодифенил у человека вызывает рак мочевого пузыря, а у
мышей - рак молочной железы.
• Хлороформ (HCCl3) вызывает рост рака печени у самок разных линий
мышей, но не у самцов.
• Гидразид изоникотиновой кислоты, или изониацид вызывает аденомы
(доброкачественные) у мышей (Bancifiori и Severi 1966), но у людей
не наблюдалось ничего подобного, несмотря на то, что это лекарство
использовалось в огромных количествах для лечения туберкулеза
на протяжении последних четырех десятилетий.
Особенно трагический пример являет собой диэтилстильбэстрол или
стильбэстрол (синтетический эстроген, известный как Cyren и Oestremon),
который впервые появился в 1938 году. В 1944 году было объявлено,
что он предотвращает рак простаты (The Times, 24 ноября. Впоследствии
его использовали для предотвращения выкидышей, что привело к новой
главе в "отрицательной медицинской науке" - трансплацентарному
карциногенезу. Когда это лекарство принимают беременные женщины,
то в 95% случаев у их детей женского пола в возрасте от 7 до 27
лет возникает рак влагалища (Greenwald et al. 1971; Herbst and Scully
1970; Herbst, Ulfeloer and Poskanzer 1971). Подозрения появились
только через 20 лет после того, как лекарство вышло на рынок. 10
октября 1965 года сенатор Эдвард Кеннеди (Edward Kennedy объявил
перед американским Сенатом, что стильбэстрол стал причиной рака
у 220 дочерей женщин, принимавших это лекарство во время беременности.
К 1977 году число таких случаев увеличилось до 333, а в последующие
годы их диагностировалось по 50 ежегодно. Потом появился еще один
повод для беспокойства: у женщин, принимавших стильбэстрол, чаще
наблюдался рак груди и доброкачественные новообразования в матке,
а у сыновей женщин, использовавших лекарство, повышен риск рака
яичек. Кроме того, у детей обоих полов чаще (более чем в 2 раза)
встречаются психические расстройства (Medical Tribune, итальянское
издание), 7 апреля 1984). Также возникли опасения в связи с тем,
что какое влияние на беременных женщин и их детей могло оказать
потребление мяса животных, получавших стильбэстрол в качестве стимулятора
роста. Разумеется, было бы излишним указывать, что стильбэстрол
до поступления в продажу "самым добросовестным образом"
тестировали на животных3.
Чтобы исследования представляли какую-либо пользу для человека,
им требуются более надежные методы - не бесконечное накопление бессистемных
идей, а взаимосвязанные данные. Вместе с тем, "бесконечное
накопление" обеспечивает работу для большого количества людей,
которые зарабатывают себе на жизнь посредством такой ситуации; исследование
же "взаимосвязанных данных" требует лишь нескольких тщательно
отобранных, компетентных и честных специалистов. Но каждый знает,
насколько легче производить количество, а не качество.
В высказывании английского хирурга и историк медицины М. Беддоу
Бейли (M. Beddow Bayly) есть юмор: "Исследования стали большим
бизнесом… Несомненно, множество людей считают их очередным способом
зарабатывать себе на жизнь". Старая история? Вовсе нет. Вот
доказательства 1981 года из Corriere Medico: "Распоряжения,
изданного парламентом, должно быть достаточно для того, чтобы 1500
докторов были автоматически внесены в список исследователей. Чтобы
начать университетскую карьеру в должности исследователя, они должны
только доказать, что провели достаточно времени на работе".
Это правда, что искусственно созданные болезни не учат нас ничему
и вводят в заблуждение. Также правда то, что, проводя тщательные
наблюдения за спонтанными болезнями у животных, врачи выполняют
две цели:
- Они могут расширить свою сферу опыта наблюдать за жизнью в разных
формах.
- Они получают возможность учиться не только на контрастах, но
и на аналогиях.
Тем не менее, чтобы врач подходил к животным с позиции науки, необходимо
построить мост между двумя отраслями науки - ветеринарной и человеческой
медициной - которые связаны друг с другом, но которые, тем не менее,
оказываются в изоляции вследствие надменности и чувства превосходства
со стороны врачей. Однажды я лечил собаку, хозяин которой знал меня
только на глаз. "Но, - спросил он меня неуверенно, когда я
закончил, - Вы ветеринар?" "Нет, - ответил я, - я человеческий
доктор". Бедный мужчина покраснел и несколько раз просил у
меня прощения. Сколько же людей полагают, что они оскорбляют "настоящего
врача", приняв его за ветеринара?
Экспериментатор ищет гомогенные модели, но поиск остается бесплодным,
потому что животные упорно не отказываются от своей природы. Но
экспериментатора не так-то просто обескуражить. "Ну а насколько
они разные? Мы их сделаем одинаковыми!"
Первый шаг - вывести максимально чистую линию. Это достигается через
селекцию среди родственных животных. Братьев, сестер и их детенышей
спаривают в течение многих поколений (до 20). Лабораторные линии,
полученные таким образом, обозначают названиями или символами: мыши
CBA, мыши L292, мыши C57B1, C57Br, C3H/HE, гималайские кролики,
лондонские черные крысы, крысы линии Спраг-Доули и т.д.
Но этого недостаточно. Животные, гомогенизированные с рождения,
не могут оставаться таковыми после нескольких недель жизни в разных
условиях и потребления разной пищи. Поэтому они получают стандартное
питание. Фармацевтическая и пищевая промышленность, которая всегда
внимает новым возможностям бизнеса, занимает эту нишу, и вскоре
появляется стандартное питание для мышей, крыс, морских свинок и
других животных. Таким образом исследователи ожидают получить стандартную
мышь, стандартную морскую свинку и т.д. - животных, которые будут
реагировать стандартным образом на разные стимулы (лекарства, физические
воздействия и т.д.).
И что они достигают? Ненормальных, если не сказать больных животных,
которые более не подчиняются естественным импульсам4,
с помощью которых организм обычно реагирует на выбор еды. Они больше
не реагируют "нормально" на лекарства, физические и микробиологические
стимулы. В свою очередь разные экспериментальные стимулы меняют
механизмы - аппетит и жажду, метаболизм и выделение - которые регулируют
прием и усвоение пищи. Таким образом, исследователь даже утрачивает
контроль за количеством стандартизированной пищи, съедаемой, усвояемой
и выводимой животным. Иными словами, диета перестает быть стандартной.
Кроме того, иногда, словно насмехаясь над нами, вмешаться могут
непредвиденные обстоятельства, которые способствуют нарушению единой
природы экспериментальной модели. Примером могут служить проблемы,
имевшие места с мышами C3H-А и C3H-AfB несколько лет назад. Эти
две линии заболели почти на 100% во всех лабораториях США. У них
был спонтанный рак печени и молочной железы, хотя это явление очень
редко случается в американских лабораториях. Наконец стало казаться,
что проблема решена: в американских лабораториях в американских
лабораториях в качестве подстилки в клетках используются опилки
кедра, а в австралийских лабораториях - сосновые (Sabine, Horton
and Wicks 1973).
И как можно проводить аналогию между этими животными и людьми, которые
едят все, трогают все и оказываются подвержены всему?
Но это еще не все. Существует также вопрос кишечной флоры. Последняя
включает в себя огромное количество микроорганизмов, и очень маловероятно,
чтобы два индивидуума, даже одного и того же вида, оказались идентичны
в этом отношении. Кишечная флора оказывает огромное влияние на метаболизм
животного - животные (в том числе и люди) не могут жить без нее,
потому что она производит жизненно необходимые вещества (такие как
витамины группы В и витамин К).
Таким образом, стандартной недостаточно для создания стандартного
животного: нужны стерильные животные, то есть, без чужеродных организмов,
вроде вирусов, бактерий, грибков, одноклеточных или многоклеточных
организмов. Такие линии получить можно, но как это делается?
Во-первых, животные могут появляться на свет посредством кесарева
сечения, чтобы избежать попадания инфекции при соприкосновении с
влагалищем матери. Во-вторых, животных можно поместить в асептическую
среду и кормить асептической пищей.
Таким образом, стерильное новорожденное животное растет и становится
стерильным взрослым (стерильной мышью, крысой, морской свинкой и
т.д.). И что это будут за животные, лишенные симбиоза с микроорганизмами
(явление это зародилось у видов миллионы лет назад и обусловило
их выживание), вынужденные жить в стальных клетках, почти полностью
изолированные от звука, лишенные возможности искать и выбирать пищу
для ежедневного балансирования рациона, живущие при искусственном
освещении, при отсутствии необходимости справляться с изменениями
температуры? Какую "модель" они представляют, если не
являются уже представителями своего собственного вида? И какую связь
имеют результаты, полученные от них, к человеческим болезням? Результаты
будут столь же стерильные, как и сами животные.
У таких животных можно заметить поведенческие и анатомические изменения.
Но тут возникает вопрос: они происходят исключительно вследствие
стерильности или из-за неестественных условий? В этой ситуации,
как и в других, исследования создают больше проблем, чем решают;
такая работа напоминает раскрытый веер, и каждая попытка решить
тот или иной вопрос порождает тысячу других.
У стерильных животных наблюдаются анатомические, биохимические и
иммунологические аномалии.
Наиболее очевидные анатомические аномалии состоят в значительном
увеличении слепой кишки (Gordon и Wostmann 1960; Griesemer и Gibson
1963); истощение базальной мембраны кишечника, гипоплазия (неполное
развитие) ретикулоэндотелия, кишечной лимфатической ткани, мезентериальных
лимфатических узлов, вилочковой железы, надпочечников и селезенки.
Биологические аномалии заключаются в увеличении количества щелочной
фосфатазы и уменьшении количества кислой фосфатазы в слизистой оболочке
слепой кишки (Jervis и Biggers 1964); быстрое всасывание тимина
(обнаруженного в ДНК), глюкозы, триметилглюкозы (Гордон 1960) и
d-ксилозы в тонкой кишке; повышенный уровень холестерина в крови
(Aldridge and Johnson 1977; Ames et al. 1973); в моче отсутствие
уробилиногена (Gustaffson and Lanke 1960), фенилсульфата и индоксил-сульфата;
повышенный уровень железа и меди в печени. Более того, продолжительность
жизни желчных кислот и активность вилочковой железы оказываются
снижены, а базовый метаболизм замедлен (Desplaces et al. 1963).
Основной иммунологической аномалией у стерильных животных считается
снижение количества сывороточных гамма глобулинов (Gustaffson and
Laurell 1960; Sell 1964).
Все эти примеры указывают на идею, которая лежит в основе всего
научного антививисекционизма: результаты опытов на животных нельзя
переносить на человека. Данное утверждение рискует стать скучным
афоризмом. Но правду остается только повторять, и, следовательно,
она будет однообразной. Между тем, сложно понять, почему для зарождения
в умах врачей простой, но сильной мысли "что-то тут не так"
оказывается недостаточно тысяч разных и противоречивых "истин",
накопленных в результате опытов на животных.
Врачи и исследователи из разных стран разными словами выражали одно
и то же антививисекционистское мнение по поводу рака.
"Так получается, что все наши знания о структуре, симптомах,
диагностике и лечении неоплазии (рака) идут от тех, кто работают
с проблемой прямыми клиническими методами. Вклад лабораторных экспериментаторов
в эти обширные знания практически равен нулю" (профессор Хастингс
Джилфорд (Hastings Gilford), Lancet, 15 июля 1933).
"Некоторые исследователи считают, что через опыты на животных
можно обнаружить истоки рака. Как онколог я не согласен. Количество
канцерогенных веществ, которое пришлось бы скормить или ввести подопытному
животному, так велико, что было бы понятно: рак, вызванный таким
способом, есть всего лишь результат отравления" (профессор
Хайнц Оэзер (Heinz Oezer), Quick, март 1979).
"Хотя это правда, что изменение генов одинаковое у всех видов,
в то же время изменение функций генов разное у животных и человека.
Например, обнаружилось, что сахарин, который "способствует"
развитию рака у мышей, не оказывает такого влияния на человека"
и в результате раздутые страхи лопаются, как мыльный пузырь (Ренато
Дульбекко (Renato Dulbecco), лауреат Нобелевской премии 1975 года,
цитата по статье Вивианы Казан (Viviana Kasan), Corriere della Sera,
23 июня 1981).
"Опыты на животных не объясняют ничего того, что касается канцерогенного
эффекта химической субстанции. Когда опасность рака для человека
вследствие соприкосновения с химическими веществами исследуется
на животных, результаты остаются на уровне гипотезы. Мы можем верить
только тем экспериментам, которые проводились на человеке. Эксперименты
на высших млекопитающих следует рассматривать как чистой воды спекуляцию"
(профессор Н. Брюс (N. Bruce) из Университета Калифорнии).
"Рак, вызванный у животных с помощью посевов или инъекций,
никоим образом, ни по причине, ни по эффекту, нельзя сравнивать
с тем, что наблюдается у человека" (профессор Перчез (Purchase),
Соединенное Королевство)".
Лейкемии
Существует около двадцати распространенных видов лейкемии (рака
крови), и некоторые из них, которые встречаются редко, классифицировать
трудно. В целом их можно разделить на две основные группы: миелоидные
лейкемии и лимфоидные лейкемии. Миелоидные лейкемии - это болезни
клеток, вызванные костным мозгом (полиморфонуклеарные лейкоциты,
красные кровяные тельца, мегакароциты), а лимфоидные лейкемии атакуют
клетки, производимые органами лимфатической системы (прежде всего
лимфатическими узлами, селезенкой и лимфатической тканью кишечника).
Какое же отношение имеют лейкемии к людям и животным?
1. У людей лейкемии имеют место в любом возрасте.
2. Лейкемия не обнаружена ни у одного известного вида животных.
Тем не менее, как и следовало ожидать, вивисекторы позаботились
об уравновешивании ситуации и тестируют на животных болезнь, которая
типична для человека, но не встречается у всех других животных.
На животных проводятся опыты по трансплантации костного мозга и
губчатых костей, и их восхваляют как современную экспериментальную
терапию. Но данный метод не является современным и никоим образом
не связан с опытами на животных: его используют с разными целями,
особенно в случае обширного повреждения костей, уже более 50 лет.
Онкогенные и неонкогенные вирусы
Даже те вирусы, которые считаются онкогенными (то есть, вызывающими
рак, хотя еще не известно, как именно), демонстрируют различия между
разными видами животных, а также между животными и человеком.
Наш первый вопрос должен быть таким: а существуют ли в природе "онкогенные
вирусы"? В 1970-е годы был период, когда считалось (и на это
надеялись), что рак может быть вирусным заболеванием. Хотя тогда,
как и сейчас, не было лекарства, способного "убить" вирусы,
ученые, тем не менее, надеялись найти его. В случае любой болезни
важно найти причину, так как это дает нам если не уверенность, то,
по меньшей мене, надежду, что мы движемся к конкретной цели. Но
все надежды разбились, и сегодня от вирусной гипотезы отказались
почти везде.
У человека только один вирус считается онкогенным: вирус Эпштейна-Барр,
который вызывает лимфома Бёркитта. Но весьма озадачивает тот факт,
что эта лимфома имеет место только в Африке, в то время как в Европе
тот же самый вирус вызывает излечимую и довольно распространенную
болезнь, инфекционный мононуклеоз (моноцитарную ангину). Тем не
менее, встает вопрос, а лимфома Бёркитта - это вообще рак? И что
вообще животные могут нам рассказать при такой неясности?
Как всегда, они дают нам информацию, которая, кажется, специально
предназначена для того, чтобы запутать нас. Вот доказанные факты:
почти все известные животные подвержены раку. Но в какой мере болезнь
связана с вирусами? У нас нет надежных ведений, а то немногое, что
мы имеем, - экспериментального характера, со всеми неясностями,
присущими экспериментальным методам, методам, которые были созданы
искусственно человеком.
Используя вирусы, ученые смогли вызвать меланому у плодовой мушки
Drosophila melanogaster, онкологическое заболевание у лягушки вида
Rana pipiens, и еще у одного земноводного, из рода тритонов Trichurus
viridescens; посредством вирусом удалось вызвать лимфосаркому у
африканской жабы Xenopus laevis и одну из самых известных экспериментальных
сарком, саркому Роуза, у кур; при помощи вируса герпеса были получены
опухоли молочной железы у древесной обезьяны Oustiti.
Сказать, что использование этих результатов применительно к человеку
сбивает с толку, - значит ничего не сказать. Более того, неясно,
являются ли вирусы, которые "вызывали" рак у плодовых
мушек, лягушек, кур и жаб, непосредственной причиной болезни или
просто оппортунистами, использующими угнетение (вследствие экспериментальных
манипуляций) для беспрепятственного закрепления в животной ткани.
Но это еще не все: нет никакой уверенности в том, что мы имеем дело
с настоящим раком: во всех этих случаях отсутствует одна из основных
характеристик рака, делающая его опасной болезнью, а именно - способность
распространяться в виде метастазов (то есть, с одной части тела
на другую).
Необходимость ранней диагностики - это миф?
Есть веские основания усомниться в том, что ранняя диагностика служит
основным инструментом для предотвращения метастазирования (вследствие
которого прогноз становится столь неблагоприятным - или это всего
лишь миф?). На сто процентов несомненно то, что диагноз, не поставленный
на ранней стадии, дает возможность доктору упрекнуть несчастного
пациента: "Почему же Вы не обратились ко мне раньше?"
и таким образом возложить на него ответственность за болезнь, которой
все боятся.
Но давайте рассмотрим ключевой момент: является ли ранняя постановка
диагноза важным фактором, если не сказать основным условием успешного
лечения? Взглянет за пределы терапии, которая используется при определенных
видов рака (химиотерапия, лучевая терапия, кобальтовая терапия,
гамма-облучение, хирургия) и обратимся к вопросу, действительно
ли ранняя диагностика делает исход болезни менее тяжелым. Действительно,
после некоторых видов лечения человек зачастую живет довольно долго,
но вопрос остается неизменным: это истинный или мнимый результат
терапии? Безо всяких сомнений, ранняя диагностика означала, что
подсчет времени выживания начинается раньше, и, следовательно, срок,
в течение которого пациент остается в живых, кажется дольше. Такой
точки зрения придерживаются видные ученые.
Доктор Джон А.Макдугалл (John A. McDougall) заявляет, что "в
большинстве случаев [рака] раннее обнаружение болезни не увеличивает
продолжительность жизни человека, а только промежуток времени, в
течение которого он знает о своей болезни" (Vegetarian Times,
сентябрь 1986). И тут встает вопрос: а хорошо ли с психологической
точки зрения знать о столь драматической ситуации?
Доктор Лайнус Полинг (Linus Pauling), дважды Нобелевский лауреат,
говорит еще более жестко: "Каждый должен знать, что значительная
часть онкологических исследований - это, по большей части, обман,
и наиболее крупные организации по исследованию рака нарушают свои
обязанности по отношению к людям, оказывающим им поддержку"
(Page, 1996).
Примечания
- У форели причиной распространенного вида рака является афлатоксин,
яд из Apergillus flavus, грибка, который поражает некоторые продукты,
например, арахис. По-видимому, афлатоксин виноват в распространении
рака печени среди населения Африки и Юго-Восточной Азии.
- Хлороформ был впервые использован как наркотизирующее вещество
английским врачом Джоном Сноу (John Snow, 1813-1858) в Эдинбурге
в 1848 году.
- Лекарствами дело не ограничивается - рак возникает даже из-за
косметики. Согласно Брюсу Н.Эймсу (Bruce N. Ames) из Университета
Калифорнии, канцерогенами являются примерно 90% всех красок для
волос с окислительными свойствами (Колин Тадж (Kolin Tudge), World
Medicine, осень 1975 года).
- Курица-несушка ест гравий. Кошка, облигатный хищник, иногда
разыскивает траву для еды. Они подчиняются указаниям, идущим от
мириадов клеток.
- Все витамины и провитамины (например, каротин) синтезируются
растениями и микроорганизмами. Животные едят растения, принимая
таким образом витамины и откладывая их в своих тканях. А еще животные
получают некоторые витамины (группы B и витамин K) из кишечной
флоры.
- Слово "стерильный" (аксенический) образовано из греческих
слов "а" - без и "ксенос" - чужеродный, внешний.
Также используются синонимы SPF - (свободный от специфических
патогенов), свободный от болезней и гнотобиотический. О возможности
получения аксенических животных заявлял Луи Пастер в 1885 году.
Первую аксеническую морскую свинку получили Наттел (Nuttal) и
Терфельдер (Therfelder) в 1885 году, но прожила она всего 13 дней.
В начале 1928 года Институт LOBUND в США (лаборатория бактериологии,
Университет Нотр-Дам) проводил обширные исследования аксенических
животных. Во время жизни в матке животные в целом являются аксеническими,
потому что плацента не дает большинству микроорганизмов, которые
могут присутствовать в крови матери, проникнуть к плоду. Вместе
с тем, имеются исключения: простейшее Texoplasma gondii у кошек
(Giesemer, 1963), личиночная стадия гельминта Toxacara canis у
собак, Treponema pallidum (организм, вызывающий сифилис) у людей
и среди вирусов, немецкий вирус кори, вирус цитомегалии и опоясывающий
герпес, который вызывает ветряную оспу и опоясывающий лишай.
- Асептическую среду получают с помощью использования "изоляционных
блоков" (стерилизуемой тары из металла и пластика, например,
блок Рейнира, блок Густафссона, Трекслера и Лева). Эти аппараты
оснащены фильтрами для дезинфекции воздуха, окнами для наблюдения
за происходящим внутри и отверстиями с закрепленными в них стерильными
резиновыми перчатками, чтобы экспериментаторы одевали их во время
операций.
- Губчатые части костей содержат кроветворный мозг (который создает
большинство кровяных элементов). Поэтому пересадки костного мозга
и губчатой кости приблизительно сопоставимы.
5.
Врожденные дефекты: могут ли эксперименты на животных способствовать
их предотвращению?
В наши дни почти все слышали о хромосомах,
а многие даже имеют приблизительное понимание того, как они работают,
и какие странные трюки они могут совершить. Люди имеют больше знаний,
чем прежде, но, как это часто случается, как только злой рок кладет
массу на одну чашу весов, на другой чаше появляется нечто такого
же веса или еще большего.
В прошлом уродства были связаны главным образом с генетическими
факторами, которые часто имели тенденцию исчезать автоматически,
поскольку в большинстве случаев потомство с дефектами оказывалось
неспособно к выживанию или размножению. В наши дни преобладают причины,
связанные с неблагоприятной экологической обстановкой1
- и созданные как раз теми людьми, которые, по их словам, работают
"во благо человечества". Список тератогенных лекарств
и подозреваемых в тератогенности растет изо дня в день2.
Точно так же растет число новорожденных с кистями рук, растущими
из плеч, с незащищенным спинным мозгом, с сердцами, функционирующими,
как неисправный светофор и заставляющими кровь течь в самых неестественных
направлениях
Но, к счастью, в этой сложной ситуации можно обратиться к животным
- давайте протестируем на них лекарства, обнаружим его тератогенные
свойства и таким образом, исключим такую опасность для людей. Это
звучит просто и убедительно. Но, к сожалению, не все так просто.
На животных-то проверка ведется, но потом обнаруживается обман -
именно так произошло с талидомидом3. Ни одно из животных,
которые, в соответствии с обязательными тестами, получали талидомид,
не дало оснований заподозрить нейротоксичность, проявившуюся у большого
количества людей. И в 1957 году химический концерн "Грюненталь"
(Grunenthal) торжественно выпустил его в продажу, заявляя, что это
"безопасный транквилизатор, особенно походящий для беременных
женщин"4.
В 1961 году компания British Distillers, чтобы не отставать в гонке
за прибылью, после многократной и тщательной проверки на животных
стала распространять лекарство, переименовав его в диставал. В результате,
во всем мире на свет появились тысячи детей с фокомелией (отсутствием
или недоразвитием конечностей). Вместе с тем, благодаря тому, что
профессор Айгюн (S.T.Aygün), вирусолог из Университета Анкары
не допустил импорта данного лекарства в Турцию, в этой стране трагедии
не случилось. США беда тоже миновала, так как доктор Келси (Kelsey)
из федеральной Администрации по пищевым продуктам и лекарственным
препаратам (Federal Food and Drug Administration) счел, что лекарство
недостаточно тестировалось на животных, а некоторые исследования
указывали на возможность периферийной нейропатии у людей вследствие
приема талидомида (Sjöstrom и Nilsson, 1972).
Было бы неправильно полагать, что контерган - это единственное тератогенное
лекарство, изобретенное фармацевтической индустрией для блага человечества.
Лекарства, которые оказались тератогенными для человека, включают
в себя все соединения алкилатов (Schardein, 1976): бусульфан, хлорамбуцил,
циклофосфамид, азотистый иприт; многие антибиотики, эффективные
при раке, такие как актиномицин C, актиномицин D, хромомицин A3,
дауномицин, азастрептонигрин, пуромицин, саркомицин и стрептонегрин;
антиметаболическое средство аминоптерин (которое используется для
нейтрализации фолиевой кислоты); метотрексат (Milunsky, Graef и
Gaynor, 1968); 6-азауридин (Vojta и Jirasek, 1966); многие анестезирующие
средства общего действия (Corbet et al. 1974; Pharaoh и другие,
1977); кодеин, возможно, аспирин (Nelson и Forfar 1971; Richards,
1972); и противорвотное средство меклозин.
Тератогенными являются большинство противосудорожных средств (Elsehove
и Van Eck, 1971; Loughnan, Gold и Vance, 1973; Meadow 1968; Millar
и Nevin, 1973; Niswander и Wertelecki 1973; Smithells 1976; South
1972; Speidel и Meadow 1972), особенно фенобарбитон и фенитоин (Barry
и Danks 1974; Fedrick 1973; Starrveld-Zimmerman и другие, 1975),
примидон, троксидон, фенетурид, метилфенобарбитон, этосуксимид и
триметадион.
Антикоагулянты из кумариновой группы, такие как варфарин (Pettifor
и Benson, 1975; Warkany, 1975) тоже считаются тератогенными. Подозрения
падают на транквилизаторы, полученные из фенотиазина, карбоната
лития (Schou и другие, 1973), мепробамата (Milkovich and Van Den
Berg 1974), диазепама (Safra и Oakley, 1975); а также противомалярийные
средства хинин и хинидин (Sullivan 1979; также они используются
как абортивное средство). Незначительной тератогенностью обладают
лекарства, снижающие сахар, из производных сульфонилмочевины.
Тератогенами являются прогестогеновые гормональные препараты, особенно
этистерон и норэтистерон (который маскулинизирует женские зародыши).
То же самое касается эстрогено-прогестогеновых соединений, которые
могут вызывать не только маскулинизцию, но и другие еще более серьезные
уродства, такие как анэнцефалия (врожденное отсутствие головного
мозга) и расщелина позвоночника.
Контрацептивы, принимаемые в начале беременности (когда женщина
еще не знает о своей беременности) могут вызвать пороки сердца и
неправильное развитие позвоночного столба, трахеи, пищевода, почек
и суставов (Harlap, Prywes и Davies, 1975; Heinonen и другие, 1977;
Janerisch, Piper и Glebatis, 1974; Nora и Nora, 1975). Лекарства,
подавляющие деятельность щитовидной железы, такие как тиоурея и
карбимазол, перхлораты и йодиды при потреблении беременной женщиной
могут увеличить щитовидную железу у плода до такой степени, что
при рождении наступает асфиксия от сжатия трахеи (McCarrol и другие,
1976; Milham и Elledge, 1972; Schardein, 1976).
Вышеприведенный список лекарств, которые могут повредить плоду,
учит нас трем вещам:
- Все эти лекарства до появления на рынке тщательно тестировались
на животных. Благодаря получению "оптимальных" результатов,
их через агрессивную рекламу навязали людям.
- Как указывают токсикологи доктор Клаус (Klaus) и доктор Львов
(Lwoff, Munchener Medizinische Wochenschift, 1976), 61% уродств
у новорожденных и 88% мертворождений связаны с лекарствами, которые
женщины принимали во время беременности.
- Наконец, стоит взглянуть на следующую статистику: В ФРГ в 1950-е
годы из 100 тыс. родившихся детей врожденные дефекты имели трое,
а к 1967 году это число увеличилось до 500 из 100 тысяч. В США
в 1967 году родилось 200 тысяч младенцев с уродствами. Ни одно
спонтанное биологическое явление никогда не имело такого колоссального
роста.
Таблица 5.1. Тератогенное действие некоторых субстанций
на разные виды
| Субстанция |
Тератогенное действие |
Отсутствие тератогенного действия |
| Аспирин |
Крыса, мышь, морская свинка, обезьяна, кошка,
собака |
Человек |
| Азатиоприн |
Кролик |
Крыса |
| Кофеин |
Крыса, мышь |
Кролик |
| Кортизон |
Мышь, кролик |
Человек |
| Инсулин |
Курица, кролик, мышь |
Человек |
| Триамцинолон |
Мышь |
Человек |
И как же тогда установить, будет ли препарат оказывать тератогенное
действие на человека? Животные всегда дают запутывающий ответ, а
если он оказывается правильным, то это всего лишь ошибка. Эта идея
наглядно показана в таблице 5.1. Комментарии к ней не требуются,
но в связи с ней возникает вопрос, а что же надо делать для выявления
того, будет ли медикамент тератогенным для человека. Совершенно
очевидно, что лекарство невозможно проверять на тератогенность при
помощи тех же клинических методов, которые используются для выявления
других эффектов лекарств.
Но один метод все существует, и им является использование культуры
клеток человека - но не других видов животных, потому что это перенесло
бы методологическую ошибку вивисекции с целого животного на отдельные
клетки.
Вернемся к трагедии с талидомидом: она стала объектом постоянных
споров между сторонниками и противниками вивисекции. Примечательно,
что одно и то же событие используется для поддержки двух противоположных
тезисов. Антививисекционисты придерживаются точки зрения, что катастрофа
с талидомидом произошла, невзирая на проделанную работу с животными.
С другой стороны, сторонники вивисекции утверждают, что это произошла
из-за недостаточного числа опытов на животных. Согласно им, экспериментировать
с несколькими видами животных недостаточно - опыты надо проводить
с очень большим количеством видов.
Вместе с тем, если бы лекарства испытывали на множестве видов, то
рано или поздно с продажи были бы сняты все медикаменты. Например,
мы бы отказались от аспирина, потому что он вызывает врожденные
уродства у мышей, крыс, морских свинок и некоторых обезьян, а на
кошек оказывает не только тератогенное действие, но и токсическое.
Отказались бы мы и от тератогенного для крыс и мышей кофеина, и
от тератогенного для мышей и кроликов кортизона. Таким образом,
нам бы потребовалось только расширить число видов для испытания
каждого лекарства, чтобы обнаружить хотя бы один вид, которому оно
бы причинило вред.
Давайте ради аргумента примем гипотезу, что если бы талидомид протестировали
на беременных животных, то он бы не вышел в продажу. Но в этом случае
было бы столь же правомерно предположить, что индустрия ради экономии
времени и денег, требующихся для исследований, могла бы выдвинуть
тезис: что происходит у какого-то вида животных, не обязательно
происходит у человека. Гипотезы строить можно бесконечно, поэтому
давайте вернемся к конкретным фактам.
Нельзя опровергнуть тот факт, что талидомид не только вызывает врожденные
уродства у человека и некоторых других животных, но также повреждает
нервную и некоторые другие системы. В нервной системе он вызывает
полиневрит, иногда необратимый, который выражается в беспокойности,
общем дискомфорте, дрожи конечностей и слабости, головокружении,
потере памяти, судорогах, мышечных болях, нарушении рефлексов, потере
координации, атаксии (потери контроля за движениями) и утрате равновесия.
В самых серьезных случаях он может вызывать частичный паралич, пониженное
давление, зуд, кровоизлияния и запор. До разрешения лекарства, в
ходе экспериментов на животных ничего такого не наблюдалось. И у
нас есть все основания предположить, что исследования проводились
обширные, в соответствии с требованиями немецкого закона.
Вместе с тем, самый известный побочный эффект талидомида - тератогенность.
Вивисекторы скорбным и торжественным тоном человека, признающего
свою неправоту, говорят: "Наша вина заключается в беспечности,
в том, что мы не тестировали на беременных животных. Если бы мы
это сделали, то беду удалось бы предотвратить". Из-за некоторых
фактов это высказывание может показаться верным. После катастрофы
талидомид вызвал врожденные уродства у новорожденных некоторых видов:
одного вида кроликов из 150 (у белого новозеландского кролика),
у обезьян Macacarius Philippines, у мышей, крыс и собак. Поэтому
кажется, что в вышеприведенных словах что-то есть. Но:
- Если до катастрофы лекарство действительно не тестировали на
беременных животных, как они могут объяснить тот факт, что в рекламе
его называли "безопасным для беременных женщин и плода"?
Чем они обосновывали столь обнадеживающие заявления?
- Почему они не упоминали те виды животных, у которых уродств
не наблюдалось?
- Какие дозы талидомида вводились теми, кто любой ценою хотел
продемонстрировать, что опыты с беременными животными могли бы
предотвратить катастрофу? Вот лишь один пример из книги, которую
написал человек, выступавший в роли свидетеля-эксперта на суде
в Альсдорфе6: мыши получали полграмма талидомида на
килограмм массы тела - эта доза примерна в 600 раз превышает ту,
которую получал человек. Любое так называемое безопасное вещество
становится токсичным при введении в столь нереальных количествах
в какой бы то ни было организм.
А талидомид все во-прежнему остается на рынке. Он оказался эффективным
при лечении системной красной волчанки и серьезных форм прыщей.
Как обнаружились столь неожиданные эффекты? Уж точно не вследствие
опытов на животных, потому что последние не страдают ни от одного
из этих заболеваний.
Примечания
- Причины, связанные с неблагоприятной экологической обстановкой,
превращают генетически нормальный эмбрион в аномальный, при этом
либо происходит изменение последовательности хромосом, либо нарушение
фенотипического (физического под влиянием внешних факторов) развития.
"Природными" внешними причинами являются определенные
бактериальные инфекции, такие как сифилис, либо вирусные, такие
как краснуха и опоясывающий герпес.
- Слово "тератогенный" происходит от греческих слов
"терас" - монстр и "генес" - родившийся.
- Талидомид - Н-фталимидоглутаримид. Его самое известное брендовое
название - контерган, но всего в разных странах их было более
40, и встречались они с разной частотой: диставал, кевадон, нейроседин,
софтенон, талимол, калморекс, имидалаб, имидан, имиден, пантоседив,
седимид, седовал и другое.
- "Time", 23 февраля 1962: Контерган… после трех лет
тестирования был объявлен безопасным, поэтому его можно продавать
свободно, без медицинских рецептов, в Федеральной Республике Германии".
Кампания по продвижению контергана началась 1 октября 1957 года.
Победил тогда слоган "Безопасный, как кусок сахара".
Из-за тысяч писем врачам, фармацевтам и неоднократных гарантий
абсолютной безопасности продукта его ждал огромный коммерческий
успех. И вскоре четыре человека из десяти, желавших транквилизаторы,
обращались к контергану (Corriere della Sera, 18 апреля 1987).
- Фокомелия - это врожденный дефект, который характеризуется короткими
руками и ногами, примыкающими к телу (от греческих слов phoke
- тюлень и melos - конечность).
- Судебный процесс над химическим предприятием Грюненталь (производителем
контергана) начался в маленьком городке Альсдорфе 12 апреля 1967
года с обвинения судьи Джозефа Хаверца (Josef Havertz). Он стал
вторым по длительности после Нюрнбергского процесса судебным разбирательством
из тех, которые когда-либо имели место в Европе. Показания давали
1200 свидетелей. 18 декабря 1970 года с согласия обвинителя суд
во главе с доктором Дайецом (Dietz) решил прекратить судебное
дело. Стороны достигли мирового соглашения, в соответствии с которым
"Грюненталь" должен был выплатить 114 миллионов дойчмарок
жертвам талидомида. 12 марта 1963 года шведская компания Астра
(Astra), которая продавала медикамент, выплатила согласованную
сумму в размере 68 миллионов крон (на тот момент 13 850 000 долларов)
100 детям. 27 ноября 1961 года Дистиллерз (Distillers), компания,
которая по лицензии производила талидомид в Англии, изъяла лекарство
из продажи.
6.
Медицинские успехи и общественное разочарование
Всё, что имеет начало, возвращается к отправной
точке, даже идеи и более или менее крупные школы мысли. Новые идеи
вносят сумятицу в истеблишмент, поэтому пришельцев атакуют, чтобы
сохранить старые убеждения. Люди делают вид, что не понимают: старая
система философии умерла еще задолго до упадка ее практического
применения. Идеи имеют природную импульсивность в начале каждого
нового цикла, но потом становятся неподвижными и затхлыми.
Много десятилетий назад профессор Пьер Лепин (Pierre Lépine)1
сказал: "Мы ученики чародея, особенно в области науки. Мы хвастаемся
открытиями, которые отравляют нас. Я думаю, будущим поколениям потребуется
много времени и усилий, чтобы избавиться от катастрофических последствий
наших исследований (Lépine, 1967). Но вылезти из этого болота
нам не дают те, у кого там есть заинтересованность. Эта заинтересованность
- она научная, интеллектуальная или духовная? Нет, конечно, нет
- это заинтересованность банковская.
Все (или почти все) новые идеи вначале бывают идеалистическими и
духовными, но затем становятся конкретными и материалистическими.
Трудно усомниться в идеалистическом настрое анатомов Возрождения
Везалия (Vesalius) и Мальпиги (Malpighi), но точно так же невозможно
оспорить ограниченный материализм их потомков. Научный материализм
стал машиной, поедающей деньги, вроде пинбольных автоматов в Лас-Вегасе.
Во многих странах национальные исследовательские комитеты раздают
огромные суммы общественных средств разным университетским кликам
на "серьезные исследования". Это звучит хорошо, но как
следует определять слово "серьезные"? Его определение
- вопрос прецедента: важно не раскачивать лодку, восхвалять "великие
достижения" своих предшественников, не наступать на определенные
больные места.
Эти важные условия "серьезных" исследований тщательно
выполняются доверенными лицами мутной и обесцененной университетской
псевдокультуры. Независимому исследователю, непредубежденному ученому
или философу, не обладающему финансовой поддержкой, нет смысла пытаться
опубликовать новаторскую книгу; то же самое касается и независимого
социолога, которому нужен небольшой грант. Денег доступно много,
и их щедро раздают - но одним и тем же людям.
Согласно давнему, но все еще актуальному наблюдению, непрофессионалы
способны чувствовать приближающуюся опасность и выстраивать адекватную
защиту от нее (это ошибочно считается инстинктивной способностью,
но на самом деле - накопление подсознательных сообщений, выражаемых
посредством идей и в виде оборонительного поведения). Данная способность
проявляется в том, как люди отворачиваются от ортодоксальной медицины
и обращаются к таким видам лечения как акупунктура, гомеопатия,
хиропрактика, остеопатия, гипнотерапия, гидротерапия, рефлексология,
иридология, фитотерапия, диета и лечение прикосновением.
СМИ осознали существование этого явления и пытаются оценить его
статистически. Вот выдержка из "Il Medico d"Italia"
за 3 февраля 19852. "Франция: 46% французов уже
обратились к альтернативной медицине. Наиболее популярна гомеопатия
(37%), за ней идут акупунктура (21%), фитотерапия (10%) и гидротерапия
(7%). Причины, по которым предпочтение отдается "альтернативной"
медицине, включают: ее более естественный характер (51%), то, что
"ортодоксальная медицина бесполезна" (40%), и "пациенту
уделяется больше внимания", то есть, целостный подход (21%)".
Еще более впечатляющие результаты были получены в Милане: как ответили
в ходе опроса CENSIS 58% респондентов, причина выбора альтернативной
медицины в том, что "альтернативные методы причиняют меньше
вреда" (там же).
Еще на данную тенденцию указывает цитата из "Corriere Medico"
от 20 ноября 1984 года: "Анита Дэвис (Anita Davies), гомеопат,
отвечая на вопрос о частоте излечения среди ее пациентов, ответила,
что в гомеопатии "все как в ортодоксальной медицине - треть
пациентов излечивается, треть получают какую-то пользу, у трети
состояние после лечения не меняется".
В Тайване, где численность населения составляет примерно 17 миллионов,
почти одинаковая часть людей обращается к западной медицине, к китайской
медицине и к шаманским ритуалам. Группа американских врачей произвела
статистический анализ результатов и обнаружила, что во всех трех
группах количество успешных и неуспешных случаев одинаково.
Как можно увидеть, для традиционной медицины ситуация выглядит неутешительно.
Вместе с тем, мне бы хотелось прояснить возможное недопонимание:
мое намерение не состоит в придании неподобающей важности этой новости
и в использовании ее для поддержки моего тезиса. Ее следует воспринимать
лишь как сигнал тревоги, свидетельствующий о перемене в умах простых
людей. Это явление существует и, более того, заметно всем. Сегодня
зеленые аптеки появляются в каждом квартале любого города, как грибы
после дождя. Более того, многие обычные аптеки больше не наполняют
свои полки "лекарствами по рецепту" - вместо этого они
освобождают место для баночек с сушеными травами и кореньями. И
люди их покупают, предпочитая потратить деньги на травы, смешанные
на месте, возможно, по рецепту аптекаря, не на красиво упакованные
таблетки и свечи, гарантированные "наукой".
Следует помнить, что альтернативная медицина обретает почву исключительно
за счет собственных заслуг, не принимая никакого участия в рекламных
кампаниях, которые наводняют наши дома и сознание догмами ортодоксальной
науки. Более того, явление это распространяется не только среди
общественности: многие врачи теперь отправляют своих пациентов к
фитотерапевтам, рекомендуют акупунктуру, остеопатию или хиропрактику.
Другие доктора занимаются этими дисциплинами сами - и, по их же
заявлениям, успешно. Кто-то может задать циничный вопрос: "Вы
имеете в виду финансовый успех?" Но это не так - или скорее
не всегда так. С другой стороны, слишком тщательный анализ некоторых
решений докторов, ориентированных на науку, не принесет пользы тем,
кто в своем осуждении "шарлатанских" лекарств крепко держится
за догмы, пропагандируемые университетами и приводимые в инструкциях
к их лекарствам.
Здесь я хочу подчеркнуть, что не стремлюсь продвигать альтернативную
медицину либо сравнивать ее с медициной традиционной. Вместе с тем,
меня интересует бесспорный исторический факт, заключающийся в том,
что значительная часть населения отворачивается от традиционной
медицины, и я считаю это очень немаловажным (кто-то скажет, пугающим)
явлением, которое нам не следует скрывать, равно как и переоценивать.
В любом случае несомненно одно: общественное мнение разделилось,
и это бросает тень сомнения на надежность традиционной медицины
- которая, как заявляют сами ее представители, имеет прежде всего
вивисекционный характер.
А как "ученые" реагируют на такие вызовы? Они делают это
самым удобным образом - отказываются признавать всякие аргументы,
кроме своих собственных. Не имея возможности опровергнуть факты,
- что при использовании гипноза или акупунктуры операции оказываются
безопасными для пациентов, что рефлексология излечивает пептические
язвы и т.д. - они относятся к такому "абсурду" с высокомерием,
принимают их свысока, пропуская через собственную схему мышления
и давая механистические объяснения (что нередко приводит к неуклюжей
попытке присвоить себе то, что они не смогли понять). Например,
попытки объяснить обезболивающий эффект акупунктуры привели к "теории
ворот", а гипноз объясняют химическими терминами, приписывая
мозгу способность производить по желанию вид морфина. Сгодится любое
объяснение при условии, что оно поддерживает механистическую точку
зрению, составляющую основу гибельной научной доктрины, которая
претендует на объяснение всего.
Но время идет, и беспокойство наших неприятелей соответственно увеличивается.
Они начинают понимать, что что-то меняется. Со смятением и беспокойством
они обнаруживают, что их предположительно неприступная крепость
сделана из картона. Новости просачиваются - порой нечаянно - в некоторые
газеты. Одна такая новость взята из абсолютно ортодоксального медицинского
журнала: "Следует помнить, так называемые антививисекционисты
становятся настолько массовым движением в США, что представляют
серьезную политическую проблему" ("Tempo Medico",
4, 15 марта 1987 года)5. Признаюсь, что не понимаю, почему антививисекционистов
определяют "так называемые". Использование безобидного
прилагательного в пренебрежительном смысле? Высокомерие кого-то,
убежденного, что знает лучше? Вряд ли это имеет значение. Что интересно
- и смешно - так это скептицизм автора статьи, констатирующего,
что антививисекционизм становится "массовым движением"
даже в США - стране с самой бездумной верой в науку. То реакция
человека, который вальяжно прогуливается и внезапно получает удар
в спину.
Многих скептических "благодетелей человечества" огорчило
еще одно событие. На этот раз политики издали закон против вивисекции.
Закон провинции от 8 июля 1986, №16, провинция Больцано, одобрен
советом автономной провинции Больцано 21 июля 1986.
Постановление в защиту животных
Совет автономной провинции Больцано одобрил, а президент провинциального
совета обнародовал следующий закон:
Статья 1
Постановление
Автономная провинция Больцано постановила, что на территории, находящейся
под ее юрисдикцией, все виды животных должны защищаться.
Статья 7 (с) гласит: "Аналогичное наказание распространяется
на всех, кто проводит эксперименты на живых животных, в том числе
исключительно с научными и образовательными целями" (выделение
добавлено).
Примечания
1. Профессор Пьер Лепин, член Французской Академии наук и Национальной
Академии медицины в то время был директором отделения бактериологии
в парижском Институте Пастера.
2. Впоследствии эта новость получила дальнейшее освещение в "Corriere
Medico" от 6 февраля 1985 года. Изначальным источником было
исследование, произведенное агентством "Глобалпресс"
(Globalpress Agency).
3. В одном только Милане число травников с 1986 по 1988 увеличилось
с 166 до 221, то есть, на 33% (Il Medico d'Italia 3 (январь):
3).
4. Теория ворот гласит, что боль проходит через "ворота"
и достигает сознания. Но если добавляется еще одна боль (вызванная
искусственным путем, через акупунктуру), то отверстие, оставленное
открытой "дверью", пропускает только один болевой импульс
(это очень упрощенная форма гораздо более сложной и запутанной
теории).
5. Эта статья с жесткой вивисекционистской позицией, как и положено
публикациям в периодических изданиях, которые существуют за счет
фармацевтической рекламы, излагает идеи, опубликованные Карлом
Коэном (Carl Cohen) с философского факультета Мичиганского Университета
(Michigan University) в "New England Journal of Medicine".
Философ начинает со слов: "Какие права имеют животные? Никаких".
Остальное представить себе нетрудно. Точно также можно легко подумать,
что мы живем в Средневековье.
7.
Биомедицинские исследования: стремление к "точной" науке
Ни одна объективная наука не бывает абсолютно
точной, даже так называемые "точные" науки. Точная только
математика. Но математика - наука субъективная, порождение ума для
привнесения порядка в восприятие реальности.
В науке точным считается только то, что можно при желании подтвердить
или воспроизвести, данные, достаточно постоянные во времени и пространстве.
То есть, что-то может быть точным только в рамках времени и пространства.
Было бы "точным" сказать, что ускорение гравитации (g)
имеет значение 980,665 см/сек² , но только на поверхности Земли,
на широте 41°1. Если измерение производится на Луне
или Юпитере, то значение будет иным. Также было бы "точно"
сказать, что ртуть затвердевает при температуре -39°С, вода
замерзает при 0°С, а этиловый эфир кипит при 37°. Но это
верно только при атмосферном давлении у земной поверхности.
Из всех наук биология наименее точная. Вместе с тем, в ней следует
стремиться к предельно возможной точности. Если мы не можем достичь
недостижимого математического идеала, то мы по меньшей мере в состоянии
приблизиться к относительной точности физики, химии и механики.
Если мы не попытаемся вывести биологию на прямую и узкую тропу,
то ее прогресс будет оставаться сомнительным и противоречивым -
сегодня белое, завтра черное, сегодня высоко, завтра низко, сегодня
полезно, завтра вредно. Например, спагетти в Италии долго считались
смертельными для диабетиков. К 1980-м годам диабетикам стали рекомендовать
для сохранения здоровья получать 60% калорий их тарелки спагетти
(Simpson и другие, 1981).
Обычно считается, что для достижения долголетия человеку следует
придерживаться умеренного питания и не набирать вес. Но, согласно
профессору Кизу (Keys) с кафедры эпидемиологии Университета Миннесоты
(University of Minnesota), 30 лет статистики продемонстрировали,
что толстые живут дольше худых (Il Giorno, 16 октября 1988, с. 5).
В один день пищевая индустрия оказывается на грани коллапса, но
в другой переживает расцвет, в зависимости от преобладающих взглядов
на холестерин. А противоречивых рекомендаций дается еще больше:
"Люди с больным желудком должны есть вареный рис", "Вареный
рис вызывает изжогу", "Для борьбы с атеросклерозом придерживайтесь
нежирного питания", "Для борьбы с атеросклерозом придерживайтесь
сбалансированного питания", "Масло смертельно опасно для
Ваших артерий", "Сливочное масло можно потреблять без
опасения, но в небольших количествах, как и все жиры".
Почему возникают все эти противоречия? Потому что:
1) что-то не так с методологией;
2) что-то не так с целями исследования;
3) Что-то не так с организацией исследований.
Методы
Исследования с использованием животных игнорируют людей и создают
клубок идей, которые, в свою очередь, требуют дальнейших исследований.
Это напоминает проблемную фабрику, на которой тысячи работников,
имеющих дело с бесполезной машиной, достаточно умны для придумывания
решений, но неспособны понять, что ходят кругами. Возможно, такое
суждение об интеллекте людей, которых общественность считает "интеллигентными",
может показаться высокомерным. Но наша точка зрения - не единична.
Вот что в 1962 году сказал доктор Джеймс Уотсон (James Watson)3,
лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии: "Вопреки
распространенному мнению, которое поддерживается газетами и матерями
ученых, многие ученые не просто обделены мыслительными способностями
- они тупы, как пробки" (цит. по Coleman, 1977).
Что касается ученых-вивисекторов, вот комментарий доктора Джеймса
Бурнета (James Burnet), руководителя "Medical Times":
"Нам надо оставить вивисектора, чтобы он бродил, подобно потерянной
душе, в пустыне, которую он сам себе создал" (Burnet, 1954).
Напротив, мы более не должны допускать, чтобы такая ситуация продолжалась.
Пустыня становится слишком дорогой, она стоит нам денег и человеческого
здоровья, что, в свою очередь, отнимает еще больше денег. Тут также
имеет место потеря интеллектуальных ресурсов, потому что среди "бродящих
по пустыне" есть талантливые люди.
Цели
У исследователей есть четкое представление о целях: карьера и деньги.
Чтобы сделать карьеру, надо стать известным, а чтобы стать известным,
надо печатать труды. Но ежедневный поток публикаций исчезает в архивах,
которые никто не смотрит. Для прогресса надо небольшое количество
ясной информации. Сенсационные результаты, которые вскоре опровергаются,
препятствуют развитию науки. Для прогресса нужны маленькие осторожные
шаги честных ученых. Тем не менее, в европейских и американских
системах назначения на должности публикации оцениваются подобно
овощам и фруктам, по весу.
Вторая цель исследователей заключается в заработке денег, и последние
идут из общественных фондов (национальные исследовательские комитеты)
и фармацевтической индустрии; а последняя требует, пусть и не по
собственному подстрекательству, опытов на животных. В XIX веке политики,
преклоняющиеся перед ортодоксальной наукой, приняли законы, которые
предписывают опыты на животных и способы их проведения.
Одним из главных предписываемых опытов при тестировании лекарства
на токсичность является выявление летальной дозы для 50% животных
(ЛД50). Экспериментатор указывает, что чем больше количество используемых
животных, тем более воспроизводим эксперимент. Как и со всеми умозаключениями
на основе статистики, это кажется безошибочным. Но при проверке
вещества на том же виде животных, но в другой лаборатории результат
может быть ниже в 4 раза. Порой летальная доза оказывается в 10
раз ниже, чем указывает производитель4.
В данном случае шустрый экспериментатор может возразить, что делать
проверку только на одном виде животных недостаточно. Надо использовать
много видов, и чем больше их разнообразие, тем более надежными будут
результаты. Такая логика кажется железной. Но таблица 7.1 показывает,
что происходит, например, с метилфторацетатом.
Таблица 7.1. Проверка метилфторацетата с помощью
ЛД50
| Вид |
Мг/кг3 |
| Собака |
0,15 |
| Кошка |
0,3 |
| Кролик |
4,0 |
| Мышь |
6,7 |
| Обезьяна |
11,0 |
Источник: Mitruka, Rawnsley and Vadehra
1976
Обезьяна в 73, а мышь в 44 раза устойчивее собаки. Более того,
давайте обратим внимание на то, что происходит у "родственных"
животных, таких как морские свинки, мыши, крысы и кролики (все грызуны):
морские свинки в 10 раз устойчивее кроликов, своих близких родственников,
имеющих сходные пищевые привычки и т.д.; вместе с тем, для кошек,
не имеющих близких связей с морскими свинками, результаты сходны.
Совершенно очевидно, что мы не можем полагаться на результаты, которые
разнятся даже у близких видов - что уж говорить о переносе с одного
вида на другой.
Но это еще не все. Тест ЛД50 демонстрирует способность убивать один
вид или больше, но ничего не говорит о не смертельном вреде вещества.
Часто кажется, что смерть - не худшее из зол, и об этом свидетельствуют
жертвы клиоквинола6, лекарства, использовавшегося для
лечения диареи и вызывавшего подострую миелооптическую нейропатию
(SMON) у 30 тысяч японцев и других людей во всем мире - очевидно,
сначала его самым добросовестным образом протестировали на животных,
в соответствии со всеми процедурами, предписанными законом, куда
входит и тест ЛД50. Тем не менее, бюрократия и закон все еще навязывают
ЛД50 "для охраны общественного здоровья". Исследователи
не знают всего этого? Конечно, знают, но индустрия обеспечивает
им зарплату, а политики не хотят раскачивать лодку. В конце концов,
индустрия платит не одним только экспериментаторам.
Вместе с тем, помимо исследователей в промышленности и университетах,
есть и честные доктора. Почему они не протестуют? Во-первых, потому
что они не обладают достаточной информированностью, во-вторых, потому
что это опасно. Они рискуют закончить свою жизнь так же, как экс-президент
Чили, доктор Сальвадор Альенде (Salvador Allende) и его коллеги,
которые планировали убрать из фармакопеи все ненужные лекарства
(по большому счету, все, за исключением нескольких десятков). Но
заговор был раскрыт, врачей уничтожили физически, а лекарства остались
на месте7.
Мало кто знает о SMONе, это касается и врачей. Так пусть его опишет
миссис Тамако Сузуки (Tamako Suzuki). В 42 года она решилась на
самоубийство из-за болей и немощности вследствие оксиквинола.
Свидетельство Тамако Сузуки
Запретите оксиквинол! Он не должен быть разрешен! Никто, даже моя
медсестра, не способен понять, сколько я страдала эти последние
три года, в течение которых мое тело изнемогало от боли. Я понимаю,
что день ото дня становлюсь слабее. Я испытываю боли в спине, в
груди, в плечах, в голове, в глазах, в носе, в зубах, в ушах. Я
не могу описать испытываемую мной боль во всем теле - это знают
только те, кто пострадал от SMON.
Организация
Настоящие биомедицинские исследования потребовали бы сеть связей
и быстрого обмена информацией. Поскольку самые плодотворные исследования
основаны на наблюдении за спонтанно происходящими явлениями, было
бы необходимо - по меньшей мере, в случае с явлениями, представляющими
собой наибольшую проблему - передавать наблюдения, сделанные в одном
месте, в центр сбора, оснащенный всем необходимым для электронного
анализа информации (несомненно, сейчас этого можно достичь с помощью
компьютеров - см. главу
14).
Примечания
- На полюсах ускорение свободного падения составляет пример
9,83 м/с², а на экваторе это значение составляет 7,79 м/с².
- Считалось, что вред сливочного масла (и других животных жиров)
связан с отсутствием полиненасыщенных жиров - в течение многих
лет их рекламировали как защиту от холестерина, главного врага
наших артерий. Это абсурдное преувеличение (хотя и желанное
для производителей соевого, кукурузного, подсолнечного масел
и т.д.). Действительно, если бы было доверие статистике, то
сливочное масло бы считалось защитником наших артерий. В Соединенном
Королевстве его потребление с 1930 по 1960 значительно снизилось
в пользу растительных масел, но в тот же период времени смертность
от сердечных приступов увеличилась в 6 раз (из статьи Эммануэля
Джалми Витали (Emanueli Djalmi Vitali) в "Recenti Progressi
in Medicina, 73 (4), также опубликовано в L'Espresso, 26 (5
июля 1987), 193).
- Зоолог Джеймс Уотсон (James Watson) совместно с Фрэнсис Крик
(Frabcis Crick) идентифицировал двойную спиральную структуру
ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) и стал директором Лаборатории
количественной биологии в Колд-Спринг-Харбор (Cold Spring Harbour
Laboratory of Quantitative Biology, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк)
в 1968 году.
- ЛД50 - это доза, способная убить 50% животных, получивших
ее. Впервые его использовал в 1927 год фармаколог Дж.В. Треван
(см. Trevan, 1927) для определения безопасных доз дигиталиса
и инсулина.
- Per os (лат.), перорально - прием лекарств через рот.
- Клиоквинол (йодохлоргидроксиквин, его брендовые названия -
оксиквинол, виоформ, ниоформ) был произведен компанией "Сиба-Гейги"
(Ciba-Geigy) в Базеле, ее дочерним предприятием в Японии и японскими
фирмами "Такеда" (Takeda) и "Такабе Сейяки"
(Takabe Seijaki). Клиоквинол входит в состав разных лекарств:
энтеровиоформа, интестопана и стеросана. Когда в Токио в 1976
году имел место первый судебный процесс, то в обороте находились
186 препаратов, содержащих клиоквинол. Результатом отравления
спинного мозга и оптического нерва стала подострая миелооптическая
нейропатия, ведущая к параличу нижних конечностей и серьезным
нарушениям зрения, в том числе к слепоте. Самые серьезные случаи
оказались смертельными. В 1977 году в Японии компенсации за
вред, вызванный приемом клиоквинола, потребовали 3268 человек,
но, по подсчетам, пострадали от него от 20000 до 30000 человек
("The Lancet", ведущая статья, 1977). В августе 1978
года токийский суд обязал японское дочернее предприятие "Сиба-Гейги"
выплатить компенсацию в размере 3250 миллионов йен (около 12
миллионов долларов) 133 жертвам, которые подали в суд на производителя.
Согласно показаниям доктора Олле Ханссона (Olle Hansson) из
Гётеборга (Швеция), которого токийский суд вызвал в качестве
эксперта, клиоквинол тестировали на кошках (Hansson, 1979).
Случаи отравления клиоквинолом были также зафиксированы в Австрии,
Германии, Норвегии, США и Великобритании. А связь между подострой
миелооптической нейропатией и клиоквинолом выявили в 1971 году
Цубаки (Tsubaki) и его коллеги.
- Жестокость, с которой преследовали врачей, работавших совместно
с доктором Альенде, описали доктор Альберт Джонсен (Albert Jonsen)
и его коллеги в статье "Doctors in Politics: a lesson from
Chile", New England Journal of Medicine, 291 (1974): 471-2.
Военный переворот свергнул своих жертв 11 сентября 1973 года.
Вот имена тринадцати убитых врачей: Хорхе Клайн (Jorge Klein),
Хорхе Авила (Jorge Avila), Энрике Парис (Enrique Paris), Хектор
Гарай (Hector Garay), Бруно Гарсиа (Bruno Garcia), Хуан Карлос
Серда (Juan Carlos Cerda), Гернан Хенригес (Hernan Jenriques),
Жан Гучар (Jean Guichard), Артуро Хиллерс (Arturo Hillers),
Абсалон Вегнер (Absalon Wegner), Клаудио Тогнола (Claudio Tognola),
Хорхе Хордан Домик (Jorge Jordan Domic) и Эдуардо Гонзалес (Eduardo
González) (Jonathan Kandell, "New York Times",
8 апреля 1974, с. 3).
8.
Аргументы в пользу вивисекции
Вивисекторы приберегают в качестве козырной
карты злонамеренный вопрос, с помощью которого они надеются загнать
в угол своих оппонентов: "Разве Вы не признаете, что, по крайней
мере, в прошлом вивисекция помогла привнести в медицину прогресс?"
Ключ к ответу на него лежит во фразе "по крайней мере, в прошлом".
Мы видим прошлое через призму того, что произошло позднее, а с настоящим
мы не можем этого сделать. Короче говоря, мы имеем дело с вечной
неясностью post hoc, ergo propter hoc (после этого, следовательно,
вследствие этого), то есть, оправданием с оглядкой на прошлое.
Вивисекторы могут привести сотни идей, касающихся медицины и полученных
с помощью опытов на животных. Но они нам не рассказывают, что идеи
эти оказались полезными для понимания человеческих болезней лишь
после их подтверждения через клиническую практику: в момент
их формулирования они не давали нам никакой полезной информации
о людях.
В этом случае, как их использовали? Либо их априори считали правомерными,
благодаря вере, либо они дожидались подтверждения посредством клинических
наблюдений. Позиция "доверия посредством веры" стала причиной
самых страшных катастроф в современной медицине, и даже тогда, когда
речь не идет об опасных болезнях, попадающих на первые страницы
газет, она вводит в заблуждение и, более того, препятствует прогрессу.
Было бы интересно узнать, которая часть идей из учебников, содержащихся
в учебниках по физиологии человека, на самом деле действительна
для человека, и сколько экспериментов (особенно на нервной системе)
следует за мучительными тестами на кошках, собаках, мышах и обезьянах.
Неужели опыты на животных никогда не оказывались полезными для изучения
людей? Конечно, оказывались, но они становились важными только при
взгляде в прошлое, спустя годы, порой много лет. Профессор Герберт
Гензель (Herbert Hensel), физиолог Университета Марбурга, сказал:
"Вероятность того, что результаты экспериментов на животных
и на человеке, настолько мала, что ее можно сравнить с азартной
игрой. Тем не менее, на эту игру в рулетку мы ежегодно тратим миллионы
долларов" (цитируется по В. Хартингеру (Hartinger), 1995).
Примером такого перевернутого мышления служит открытие резус-фактора1.
Многие утверждают, что без работы с обезьянами и кроликами, которую
делали Ландштейнер (Landsteiner) и Винер (Wiener, 1940, 1941), резус
фактор открыть бы не удалось, и многие люди умерли бы при переливаниях
крови. Это заявление неверно: без опытов на обезьянах и кроликах
резус-фактор, уже обнаруженный у людей, просто получил бы
иное название.
На самом деле, еще за год до публикации результатов Ландштейнера
и Винера Левин и Стетсон описали новый агглютинин (антитело, заставляющее
красные кровяные тельца держаться вместе), который содержался в
сыворотке женщины по имени Мэри Сено, родившей мертвого ребенка
(Levine и Stetson, 1939). После родов женщине сделали переливание
крови ее мужа (который имел группу крови 0 - то есть, был "универсальным"
донором), и это вызвало серьезную аллергическую реакцию. Левин и
Стетсон подумали (правильно), что в крови мужа присутствовал "фактор",
который вызвал реакцию, и таким образом они открыли новый агглютинин,
но не дали ему названия. Если бы они сделали это, использовалось
бы их название или символ, а не обозначение Rh (Sacchi, Reali и
Rossi, 1975).
Спустя небольшое количество времени (а не раньше) Ландштейнер и
Винер обнаружили, что, когда кролику в брюшную полость вводят кровь
обезьяны Macacus rhesus, то в его крови появляется агглютинин -
похожее (но не такое же) явление обнаружили Левин и Стетсон. Позже
они обозначили агглютинин символом Rh2.
Сенсационные новости очень хорошо заполняют газеты информацией и
подпитывают надежды, за которыми следует крушение иллюзий, еще более
жестокое, чем само зло. А еще такие новости поддерживают фармацевтическую
индустрию. В последние годы медицина действует по следующей модели:
за сенсационными заголовками идет замалчивание дальнейших неудач.
Оптимисты по-прежнему утверждают, что, невзирая на взлеты и падения,
медицинская наука делает успехи. Это очередной образец мышления
в стиле "post hoc, ergo propter hoc". Несомненно одно:
без вивисекции были бы другие методы. Именно их все более активно
предлагают в наши дни. Мы называем их "научными", другие
- "альтернативными" (более подробное описание этих терминов
см. в главе
3). А имели бы мы без вивисекции медицину более высокого уровня,
было бы меньше трагедий, вроде той, что произошла из-за талидомида,
были бы жертвы диэтилстильбэстрола и клиоквинола?
Здесь мы не пытаемся угадать, происходило бы таких трагедий больше
или меньше. Но история четко показывает, что трагедии имели место,
и этого достаточно. Более того, они происходят до сих пор - и будут
продолжаться, если экспериментаторы не сменят курс самым радикальным
образом. Ошибки неизбежны в любых науках, но это недопустимо, чтобы
медицина брала на себя ту роль, которую в прошлом играли холера,
чума, туберкулез, сифилис и оспа.
Одно из зол вивисекции подсчитать трудно; имя ему - задержка в разработке
научных экспериментальных методов, то есть, без использования животных.
Возможно, сейчас мы достигли поворотной точки.
Примечания
- Примерно 85% людей резус-положительные, то есть, их кровь
содержит резус-фактор. Если кровь человека с положительным резус-фактором
перелить человеку с отрицательным резус-фактором, то у него
в крови впоследствии образуются резус антитела. Если потом этому
человеку еще раз перелить кровь с положительным резус-фактором,
то происходит реакция, способная привести к смерти.
- Поскольку агглютинин у кролика, иммунизированного кровью обезьяны
Macacus rhesus, не идентичен агглютинину человеческому и может
давать обманчивые результаты, антирезусную сыворотку для определения
групп крови берут у резус-отрицательных добровольцев-доноров,
которые дают согласие на иммунизацию через переливание крови
от резус-положительных доноров. Предприятия, занимающиеся производством
диагностических сывороток, выплачивают им щедрые компенсации
за риск, которому подвергаются эти добровольцы - если им самим
когда-то понадобится переливание крови. Чтобы подчеркнуть тот
факт, что человеческий антирезус-агглютинин не идентичен агглютинину
у кроликов после получения крови Macacus rhesus, было предложено
обозначать последним символом LW (Landsteiner-Wiener). Отдадим
должное этим двум исследователям, но польза их исследований
с Macacus rhesus и кроликами заключалась лишь в том, что открытие,
сделанное другими, получило неправильное название.
9.
Отработка хирургических навыков и вивисекция
Есть хирурги, которые утверждают, что без
вивисекции не обрели бы ловкости, самообладания и точности. Действительно,
хирургия - это физическая работа, которая постоянно совершенствуется
через повторения. Тем не менее, некоторые хирурги столь же категорично
утверждают обратное: по их словам, практика на животных портит навыки.
Вот мнения некоторых выдающихся хирургов.
"Поведение ран животных настолько отличается от поведения ран
человеческих, что выводы, которые делают вивисекторы, абсолютно
бессмысленны и принесли гораздо больше вреда, чем пользы… Вивисекция
как метод исследования постоянно приводила тех, кто обращался к
ней, к совершенно неправильным выводам, и записи изобилуют случаями,
когда в жертву оказались принесены не только животные - список этот
вследствие фальшивого света пополнили и люди" (сэр Роберт Лоусон
Тейт - Robert Lawson Tait1). Он заявил это в конце XIX
века - в эпоху наибольшего энтузиазма относительно вивисекции.
"Много лет назад я проводил разные операции на кишечнике собаки,
но разница между собачьим и человеческим кишечником настолько велика,
что, когда я приступи к оперированию людей, то обнаружил, что мне
мой новый опыт очень мешает, всему надо переучиваться, и единственное,
что мне дали те эксперименты - это сделали меня неспособным к работе
с человеческим кишечником" (сэр Фредерик Тривз - Frederick
Treve), главный врач Лондонской больницы и личный врач короля Эдварда
VII - Edward VII, см. Ruesch, 1977).
"Не думаю, что какой-то представитель моей профессии сможет
доказать, что вивисекция имела какое-то значение для прогресса медицинской
науки и терапии" (доктор Чарльз Клей - Charles Clay, президент
Медицинского Общества Манчестера (Manchester Medical Society) и
член-учредитель Акушерского Общества Лондона (Obstetrics Society
of London), "The Times", 31 июля 1880).
"Никогда не встречал ни одного хорошего хирурга, которому эксперименты
на животных хоть что-то дали" (Абель Дежарден, президент Общества
хирургов Парижа, Desjardins, 1925).
"Цель должна заключаться в подготовке хирурга через работу
с пациентами-людьми через постепенное продвижение на более и более
высокие ступени сложности и через отказ от отработки навыков при
помощи оперирования животных…, что бесполезно и опасно при подготовке
торакального хирурга" (профессор Р. Белчер - R.J. Belcher,
доклад, представленный на Симпозиуме по торакальной хирургии, Сорренто,
14-16 февраля 1980, выделение добавлено).
"Животные не нужны для биомедицинских исследований, в них должны
использоваться компьютеры. Следовать традиционным путем бессмысленно
и даже опасно, так как чаще всего различия между человеком и животными
приводят к ошибкам. Мы все больше осознаем, что искусственные органы
можно применять непосредственно к человеку, без предварительного
тестирования на животных. Например, искусственные сердечные клапаны
и электронный стимулятор сердца сначала были испытаны на человеке,
без предварительной проверки на животных (профессор Луиджи Спровьери
- Luigi Sprovieri2, доклад, представленный на Симпозиуме
по торакальной хирургии, Сорренто, 14-16 февраля 1980).
"Возможно, практика на собаках действительно делает человека
хорошим ветеринаром, если вашей семье нужен именно такой специалист"
(профессор Хелд - W. Held, Чикаго).
Итак, аргументы против отработки навыков на животных как минимум
столь же авторитетны, как и аргументы за. Как же должен практиковаться
хирург, и как опытный хирург может усовершенствовать свои навыки?
Есть два традиционных и незаменимых метода: патологическая анатомия
и обучение у других хирургов.
Патологическая анатомия
Патологическая анатомия включает в себя обучение на трупах (автор
имеет тут большой профессиональный опыт). Именно труп учит хирурга
с легкостью продвигаться по человеческому телу и узнавать, что находится
за следующим надрезом, миллиметр за миллиметром.
Тем не менее, люди неодинаковы - анатомических вариаций имеется
бесчисленное количество, и они часто дезориентируют в живом организме.
Это - самый коварный подводный камень для хирурга, который никогда
не должен теряться, принимая мгновенные решения. Но такое возможно
только тогда, когда он видел одно и то же многократно и независимо
от того, за операционным столом или у доски для препарирования.
Тем не менее, хирург подходит к трупу с неохотой. Патологоанатом
обычно проводит вскрытия один в анатомическом театре, где врач может
узнать неизмеримо больше, чем из любой книги, где врач может научиться
распознавать свои ошибки и избегать их в будущем (недостаточное
знакомство врачей и хирургов с анатомическим театром представляет
собой образовательную и организационную проблему).
Если анатомические различия у людей составляют одну из самых коварных
ловушек для хирургов, даже для самых опытных, то стоит ли говорить,
что понять их через работу с животными нельзя?
По определению, труп это тело с измененными органами. Даже когда
смерть можно клинически связать с отказом одного органа, количество
и разнообразие изменений, наблюдаемых в разных органах при вскрытии,
поражает. Хирург должен визуально представлять себе эти изменения
как минимум столь же четко, как и патологоанатом, привыкший видеть
их каждый день. По этой причине для всех будущих хирургов обучение
патологической анатомии должно быть обязательным. Но вместо этого
много времени тратится на ковыряние во внутренностях животных, которые
почти всегда здоровы и ничему не могут научить в сфере человеческой
анатомической патологии.
Обучение у других хирургов
Данный метод для подготовки хирургов необходим. Инструктору не обязательно
быть выдающимся хирургом. Хирургия это искусство или скорее ремесло,
которое обретается в процессе работы. Может оказаться, что скромный
провинциальный хирург усовершенствовал хирургическую процедуру и
может научить этому других, при условии, что они достаточно непритязательны
и готовы учиться у него. Но, к сожалению, такое бывает редко.
Экспериментирование с новыми методами
Отработка новых хирургических методов на животных возвращает нас
к более ранним строкам, где мы говорили о разных реакциях животных
на разные раздражители и, следовательно, бессмысленности и нерациональности
вивисекции при хирургических экспериментах. Часто внимания не придают
даже самым очевидным различиям между животными и человеком, как
в нижеследующем примере.
В 1979 году профессор А. Пиццоферрато (A. Pizzoferrato) из Института
Риззоли в Болонье предстал перед судом. Он проводил следующий эксперимент:
удалил двум биглям головку бедра и заменил ее протезом. Три доктора
медицины (один из них - специалист в области ортопедии), призванные
в качестве свидетелей-экспертов, привели разные аргументы в пользу
абсурдности этой процедуры. Но самый очевидный пункт критики заставляет
поразиться, почему эксперимент вообще был придуман: собаки - животные
четвероногие. А это влечет за собой ряд особенностей геометрии тела
и равновесия.
1. У четвероногих ось бедра почти перпендикулярна оси позвоночного
столба, а то время как у человека оси бедра и позвоночника почти
параллельны.
2. В результате нагрузка на тазобедренный сустав у четвероногих
очень малая (примерно одна шестая часть массы тела), в то время
как у человека она гораздо больше (около трех четвертей массы тела).
Другой факт, который не учитывается, состоит в том, что в случае
с маленькой собакой общая масса тела гораздо меньше, чем в случае
с людьми, в то время как структура (и, следовательно, способность
выдерживать вес) костей примерно одинакова.
Поэтому становится очевидно, что протезирование бедра может быть
эффективным у собаки, но столь же очевидно, что для человека оно
неэффективно.
Описанный здесь эксперимент - не исключение. Не было такого, чтобы
для иллюстрации предвзятого суждения мы специально искали его среди
тысяч эффективных опытов. Напротив, в литературе на тему человеческой
хирургии было бы сложно найти хоть один разумный эксперимент на
животных. Может, не все они столь нелепы, как вышеприведенный, но
по ряду причин они бессмысленны. Это показывает, что их цель заключается
не в успехе хирургии, а в увеличении массива публикаций у исследователей,
делающих их.
Образовательный процесс
В университетах студенты-медики, изучающие хирургию и другие специальности,
вынуждены убивать лягушек, чтобы в очередной раз - кои уже, наверное,
исчисляются миллионами со времени Гальвани - воспроизвести явление
нервной возбудимости и проводимости. Возможно, их также заставлять
вызывать кровотечение у собак и ждать, пока они умрут от кровопотери,
чтобы пронаблюдать упадок кровеносной системы, вскрывать грудину,
чтобы наблюдать биение сердца, наблюдать, как биение останавливается
под действием определенных лекарств, и как оно возобновляется под
действием других лекарств.
Эти эксперименты не дают студентам ничего. Например, они ничего
не узнают о реанимации человеческого сердца, во-первых, вследствие
различий в строении грудины у человека и других животных, во-вторых,
вследствие того, что условия, при которых происходит остановка сердца
у человека, почти всегда несопоставимы с происходящим у животных.
Тот факт, что подобные "экспериментальные демонстрации"
по-прежнему имеют место, свидетельствует лишь о глупости и культурной
отсталости идеи обучения, которая в большей степени способствует
получению грантов и снисканию славы для преподавателей, чем наделению
знаниями студентов.
Современные аудиовизуальные методы, фильмы и компьютеры, которые
постоянно совершенствуются, обеспечивают нас средствами обучения,
которые гораздо более содержательны и эффективны, чем вышеописанные
абсурдные упражнения. Эти средства, так сказать, дают возможность
вступить в прямой контакт с операционными театрами величайших хирургов,
когда они оперируют людей, и пронаблюдать всю науку и уход, необходимые
для такой ответственности - а не неуклюжесть при оперировании животного,
которое к тому же будет впоследствии убито. В последнем случае студенты
могут только утратить умение, если только цель не заключается в
том, чтобы научить студентов пыткам, равнодушию к страданиям, презрению
к жизни. Но эти качества ровно противоположны тому, что нам нужно
(а все мы возможные пациенты) от людей, которым нам, вероятно, придется
вверить себя.
Кажется, студенты гораздо больше, чем преподаватели, понимают устарелость
учебных заведений, где им приходится получать образование. Во всем
мире слышны протесты студентов и молодых врачей против методов,
которые не только жестоки, но также неграмотны и портят как душу
хирурга, так и руки.
Микрохирургия
Микрохирургия - это относительно новый метод. Место проведения операции
увеличивается с помощью оптического устройства, что дает возможность
хирургу различать структуры, которые нельзя видеть невооруженным
глазом. Ему надо привыкнуть к новым измерениям и научиться регулировать
движения руки в соответствии с ними. Этот факт используют как аргумент
в поддержку тех, кто считает, что на животных легче обрести навык,
чем на людях. Но данное утверждение опровергают другие эксперты,
особенно в США и Великобритании, которые рекомендуют практиковаться
не на животных, а на человеческой плаценте или на искусственных
моделях сосудов.
В микрохирургии идея остается прежней: единственный способ тренировки
рук (и глаз) - это обучение у специалиста, а потом самостоятельная
работа, при этом начинать следует с небольших операций на человеке
и выбирать случаи, когда опасность причинить вред минимально.
Изображение на компьютере
Высокотехнологичные компьютеры дают возможность переделать двухмерные
изображения в трехмерные, что позволяет хирургу смоделировать хирургическую
процедуру, прежде чем оперировать пациента.
Пересадки органов
Рассуждая в этой главе об этом типе хирургического вмешательства,
мы ограничимся техническими вопросами. Технический вопрос решаем
для любого хирурга, который владеет традиционными приемами. Более
серьезную проблему представляют организационные вопросы: требуется
большее количество ассистентов, просторный и должным образом оборудованный
анатомический театр. Вместе с тем, основная проблема, связанная
с трансплантатами, имеет иммунологический характер, - то есть, отторжение.
Но ее нельзя решить при помощи животных, иммунная система которых
кардинальным образом отличается от иммунной системы человека. Поэтому
изучение проблемы отторжения органов на животных означает растрату
энергии, интеллектуальных ресурсов и денег, при этом шансы получить
какую-либо полезную информацию в ходе таких исследований минимальны,
что ух говорить о результатах. Мы даже рискуем получить предположительно
ценную информацию, которая, как выясняется при более тщательном
рассмотрении, отводится нас от цели еще дальше и усложняет существующие
проблемы.
Вот она, характеристика псевдонауки, то есть, современной медицины:
она постоянно создает новые проблемы, которые отодвигают нас от
реальности все дальше и дальше. Но такая ситуация создает новые
работы (и дает деньги!) целой орде "специалистов". Это,
пожалуй, единственный положительный аспект нелепого и растратного
процесса, облаченного в мантию науки, но имеющего под собой хлипкий
фундамент в виде работы с животными.
Помогли ли опыты на животных трансплантационной хирургии хотя бы
технически? Облегчили ли они путь к следующему шагу - к работе с
людьми? Удалось ли таким образом избежать человеческих жертв? Ниже
последуют некоторые ответы.
Ученые, которые решают испробовать какой-то новый прием, делают
первые попытки на животных прежде всего для обеспечения алиби, если
произойдет неудача при работе с человеком. У нас есть все основания
думать, что это соображение превалирует над всеми другими, как техническими,
так и научными.
Были основаны кафедры экспериментальной трансплантационной хирургии.
Новыми профессорами часто оказываются бывшие ассистенты хирургов,
для которых эта должность - способ закрепиться в университете. Очевидно,
подобные второстепенные фигуры в медико-хирургической профессии
никогда не признают бессмысленность и ошибочность своей работы.
Более того, работа в университете остается престижной среди общественности,
политиков и руководителей, что подпитывает идею (неверную) о незаменимости
методологии (неверной).
Первые пересадки сердца были выполнены хирургом Кристианом Барнардом
(Christiaan Barnard) в южноафриканском городе Кейптаун в 1960-е
годы. Долгое время он экспериментировал на овцах (и, возможно, на
других животных), и результаты, очевидно, оказывались хорошими,
раз он решил перейти к человеку. Но какими были истинные результаты
его практики на животных? Всего его первые пациенты умерли в течение
нескольких недель или месяцев. То есть, именно за счет них, а не
через более ранние опыты на животных эта технология эволюционировала,
так что сегодня все больше хирургов имеют возможность делать пересадки
сердца. Сказанное подтверждают данные из Университета Калифорнии,
где в течение 9 лет исследования пересадку сердца исследования на
400 собаках. Когда эту методику применили к человеку, первые два
пациента умерли от осложнений, которые никогда не наблюдались у
собак, и лишь в 1980 году 65% пациентов, перенесших операцию, смогли
прожить после нее год.
Что касается реципиентов трансплантата, мы, конечно, знаем, что
происходит с ними сразу после операции, но у нас очень мало информации
о долгосрочных последствиях. Поэтому нам приходится обращаться к
СМИ, которые на первых страницах сообщают об успехах, а о смертях
- в центре или в конце. У людей в ушах звенит от победоносных криков
хирургов, которые бегут к телефону, чтобы сообщить алчущим СМИ о
радужных перспективах. Но проводились ли серьезные исследования
о том, каков на самом деле исход операции для тех пациентов? Наводились
ли в семьях справки о качестве жизни больных, а не просто о том,
как долго эти "облагодетельствованные наукой" прожили?
Второй прооперированный Барнардом реципиент сердца, Филипп Блайберг
(Phillip Blaiberg), находился на грани смерти из-за отторжения,
но после того, как нашелся донор второго сердца, он, полностью осознавая
реальную ситуацию, предпочел смерть и отказался дать письменное
согласие на новое вмешательство. Почему? В настоящий момент известна
только одна опасность, угрожающая больным, которым сделали пересадку:
вследствие иммуноподавляющих лекарств для предотвращения отторжения
такой пациент гораздо больше подвержен раку, чем обычный человек7.
Особенно это касается опухолей ретикулоэндотелиальной системы (тканей,
продуцирующих клетки крови и лимфы и т.д.), которые из-за иммуноподавляющих
лекарств, назначаемых после пересадки почек, встречаются у пациентов
с пересадкой на 350% чаще среднего. Поэтому отторжение - не единственная
проблема. Рак тоже стоит на очереди. Но СМИ хранят по этому поводу
молчание.
Примечания
- Роберт Лоусон Тейт (Lawson Tait), выдающийся хирург и гинеколог
(1845-1899), создатель метода восстановления промежности, который
получил название "Операция Тейта". Его отрицательное
отношение к опытам на животных очевидно из названия доклада, прочитанного
им в Бирмингемском Философском обществе 20 апреля 1882 года -
"О бесполезности вивисекции животных как метода научного
исследования" (On the uselessness of vivisection upon animals
as a method of scientific inquiry).
- Луиджи Спровьери считается отцом искусственного кровообращения.
- Дело возбудил Л. Макочи (L. Macoschi), президент Национальной
Антививисекционной Лиги (Lega Antivivisezionista Nazionale) во
Флоренции.
- За этот раздел и два последующих выражаю благодарность Вернеру
Хартингеру (Werner Hartinger), доктору медицины.
- Луиджи Гальвани (Luigi Galvani), физик и врач (Болонья, 1737-1798)
вызвал тоническую судорогу в икроножной мышце лягушки, которую
он препарировал; он тогда случайно дотронулся до седалищного нерва
циркулем, при этом один его конец был из меди, а другой из цинка.
Однако это явление связано с тем, что два металла, соединенных
с проводником, в роли которого в данном случае выступал нерв,
производили электрический ток.
- 2 декабря 1967 года кардиолог Кристиан Барнард из больницы Грут
Шур (Groote Schuur Hospital) в городе Кейптауне изъял больное
сердце из груди 53-летнего Луи Вашкански (Louis Washkansky) и
заменил его на сердце Денизы Дарваль (Denise Darvall), молодой
европейки, погибшей в ДТП. Вашкански умер 21 декабря от вирусной
бронхопневмонии. 2 января 1969 года Барнард сделал следующую попытку,
при этом его пациентом был Филипп Блайберг (Philip Blaiberg),
50-летний зубной врач, которому он пересадил сердце мальчика.
В 1974 году Барнард пробовал пересадить "дополнительное"
сердце, не удаляя собственное сердце больного, но потерпел неудачу.
В 1977 году он пересадил человеку сердце обезьяны - и снова последовал
вполне предсказуемый провал. В Италии первую пересадку сердца
выполнил профессор Винченцо Галлучи (Vincenzo Galluci) 13 ноября
1985 года в больнице Падуи. Донор, 18-летний молодой человек,
погиб в ДТП. А реципиент позже умер от СПИДа.
- British Medical Journal, 3 марта 1984: 659-660; также см. Speciani,
1984.
10.
Люди-добровольцы: вопрос этики
Когда мы пытаемся прояснить моральный подтекст
человеческих действий, то неизменно сталкиваемся с дымовой завесой,
за которой сидит философ, мешает карты и вытаскивает самую выгодную
для себя. Но некоторые вещи спрятать за дымовой завесой невозможно,
потому что неоновым светом они возвещают о своей глупости и безнравственности.
Давайте оставим суждения о жестокости к животным "любителям
животных" и сформулируем следующий вопрос: вивисекция представляет
опасность для человечества только вследствие ошибок, которыми она
сбивает ученых с толку, или же она угрожает более непосредственно?
И если да, то каким образом? Действительно, люди подвергаются опасности,
так как на них проводятся те же эксперименты, что и на животных.
Эти опыты делают и на добровольцах, и на тех. Кто согласия не давал.
Об экспериментах на добровольцах ведется много разговоров, особенно
в США, но документации относительно них очень мало. Так где и каким
образом добровольцев нанимают? Чаще всего это делают в тюрьмах,
и типичное предложение обычно выглядит следующим образом: "Ты
сразу предпочтешь поджариться на электрическом стуле, или тебе завтра
сделать инъекцию раковых клеток?".
Кажется, что "свобода выбора" успокаивает совесть экспериментаторам,
но худшее впереди. Бывают эксперименты на недобровольцах. Доктор
С. Кругман (S. Krugman) дает нам пример. Однако, поступки доктора
надо предварить вступлением: опыты на людях сейчас на подъеме. Тот
рост начался с лягушек Гальвани ("гальванизированных"
в вынужденное движение, хотя они были мертвыми), а затем наставал
черед все более и более высокоразвитых позвоночных, от мышей, крыс,
кроликов к кошкам, собакам. Обезьянам и приматам. Но даже самые
глупые ученые оказываются вынуждены со временем признать, что результаты,
полученные при работе с обезьянами, нельзя экстраполировать на человека.
Поэтому требовалось преодолеть последний барьер. И тут появляется
доктор Кругман.
Доктор Кругман был убежден, что он получил вакцину от гепатита B
через кипячение инфицированной сыворотки (Krugman, Giles, Hammond,
1971). Казалось, что результаты оправдывали его оптимизм - во всяком
случае. Отчасти. Но во что все вылилось? На самом деле, вскипятить
сыворотку и назвать ее "вакциной" - недостаточно. Нужно
продемонстрировать, что она обеспечивает защиту от болезней. Тестировать
ее на животных смысла нет, надо посмотреть, что происходит с людьми.
Для этого потребовалось бы вакцинировать несколько тысяч добровольцев
и потом проверить, сколько из них самопроизвольно подхватили
вирусный гепатит, по сравнению с тем же количеством не привитых
людей. Но эта процедура оказалась бы длительной и затратной - нужно
короткий путь, и доктор Кругман его нашел.
Доктор заведовал кафедрой педиатрии в Нью-Йоркской школе медицины1.
В 1971 году он выбрал 39 детей в возрасте от 3 до 10 лет, "вакцинировал"
10 из них и всем им ввел вирус гепатита В. Заболели все 25 "невакцинированных"
детей и пятеро "вакцинированных". Таким образом, вакцина
оказалась эффективной, хоть и частично. Но как насчет детей? Для
них результат оказался менее ясным. Действительно, никто из них
не умер в течение периода наблюдения длиною в 140 дней. Но что могло
произойти с ними позже? (вирусный гепатит может привести к прогрессирующему
хроническому гепатиту - почти всегда смертельной болезни).
Доктор Кругман всего лишь стал презренной жертвой менталитета -
вивисекционистского менталитета, взращенного у него в студенчестве.
Такой образ мышления оказался подходящим для доктора Кругмана и
развился у него до уровня научных достижений или же до извращенности
- это уж как вам больше нравится.
Он имел весьма показательных предшественников - например, соотечественника
доктора Золлингера (Zollinger), который для изучения взаимосвязи
между вилочковой железой и отторжением трансплантата удалил вилочковую
железу (важнейший орган в иммунной системе) у 18 детей, которых
госпитализировали в связи с пороками сердца. Многие из них умерли
от иммунодефицита - подарочка от доктора Золлингера (см. Macoschi,
1987). Мы говорили об увеличении масштабов. Когда такой порочный
механизм запущен, то обратить вспять его почти невозможно.
В 1978 году через 7 лет после экспериментов доктора Кругмана, мощная
химическая и фармацевтическая компания решила протестировать на
людях промышленный инсектицид. Проверку проводили в сельскохозяйственном
районе Египта: шести мальчикам в возрасте 10-18 лет платили деньги
за то, чтобы они ходили по хлопковому полю, держа корову на веревке
в одной руке и фильтровальную бумагу в другой. Вскоре после этого
прилетал самолет, производивший опрыскивание урожая, и покрывал
хлопок, коров и детей облаком белого тумана2.
Что произошло с теми детьми? Возможно, на тот момент - ничего особо
неприятного, но что могло произойти с ними через несколько или много
лет? А если вещество вызывает, например, рак или повреждения плода,
кто обнаружит эту связь? Кто, допустим, спустя 20 или 30 лет свяжет
тот скоротечный экспериментальный момент с болезнью или смертью
человека, который, покинет родную деревню, пойдет свой дорогой и
возьмет с собой болезнь, полученную во время невинной игры на хлопковом
поле?
В 1984 году в итальянской прессе появился следующий заголовок: "Невероятная
торговля зародышами в косметической промышленности" (Corriere
della Sera, 20 августа 1984). Обратите внимание на слово "невероятная",
ставшее причиной первого импульса. За ним всего через 40 дней последовали
первые признаки того, что люди уже свыклись с этой идеей. "Запрос
о том, используются ли зародыши в Италии - циркуляр секретаря Коста
в итальянскую префектуру" (Giornale di Vicenza, 7 октября 1984).
Обратите внимание, как бюрократическое мышление начинает "нормализовать"
положение вещей, опускаясь до уровня ханжеского "запроса, случается
ли это в Италии также". И посмотрим, каким образом заместитель
секретаря обратился в префектуру в связи с этим: "Не желая
недооценивать моральную тонкость этого вопроса, мы хотели бы обратить
Ваше внимание на президентское постановление № 803 от 21 октября
1973, которое включает в себя указания на "изъятие и сохранение
трупов и частей тела" и т.д. Он совершенно погряз в обществе,
пропитанном научным фетишизмом, и не мог выразиться иначе. Как он
мог избежать сведения проблемы, угрожающей разрушить основу гуманистического
общества, до простого "циркуляра в итальянскую префектуру"?
Но давайте продолжим двигаться по нисходящей дороге к "нормализации".
Газета, связанная по своей сути - а также, возможно, из-за необходимости
выживать - с превалирующим академизмом пишет с некоторой жалостью:
"Призыв к недвусмысленным законам, связанных с экспериментированием
на зародышах" (Corriere Medico, 21 ноября 1984). Итак, прошли
три месяца, и мы на стадии принятия "невероятного". Конечно,
тут имеет место нечто большее, чем просто принятие, потому что регулирование
означает не только принятие такого метода, но и законодательную
защиту его.
Когда я готовил третье издание на итальянском языке, то история
получила новое развитие. Medico d'Italia в №85 за 1986 год написала
следующее:
Исследования и экспериментирование с использованием человеческих
зародышей.
"Мистер Ферри (Ferri), депутат парламента от христианско-демократической
партии в вопросе Министру здравоохранения подчеркнул, что в Европе
многие фармацевтические и косметические компании в медицинских исследованиях
и экспериментах используют человеческих эмбрионов и зародышей, которые
необязательно мертвы.
Президент Комиссии здравоохранения и социального развития Европейского
Совета осудил жесткое давление со стороны промышленного лобби, работающего
в медицинском и научном секторе, за неограниченное использование
человеческих эмбрионов и зародышей для промышленных и коммерческих
целей, при этом не указывалось, живые они или мертвые, а единственным
условием было согласие матери… Министерству здравоохранения задают
вопрос, собирается ли оно регулировать законом этот чрезвычайно
деликатный аспект".
Здесь видно, что политики предпринимают меры, которые допускают
и регулируют использование не только мертвых эмбрионов и зародышей,
но и живых.
Давайте посмотрим на сказанное более внимательно: "Президент
Комиссии здравоохранения и социального развития… осудил жесткое
давление со стороны промышленного лобби". Что на самом деле
требуют эти лобби? Они хотят полный контроль над использованием
человеческих эмбрионов и зародышей, не указывая, "живые
они или мертвые". Иными словами, они не хотят вмешательства
ни с какой стороны. Они хотят использовать эти эмбрионы (живые или
мертвые) по своему усмотрению, а единственным условием их деятельности
должно быть согласие матери, которой предположительно выплатят
компенсацию.
Мы уже ранее говорили о докторе Кругмане и его раздвоении личности:
с одной стороны, обычный обладатель вивисекционистского менталитета,
с другой - ярко выраженный сторонник точки зрения, что при изучении
медицины настоящие эксперименты должны быть внутривидовыми (то есть,
проводиться на человеке). Но доктор Кругман - не первый, кто испытывал
вакцину на человеке. У него был знаменитый предшественник, "изобретатель"
вакцинации, британский врач Эдвард Дженнер (Edward Jenner, 1749-1823).
В 1796 году Дженнер ввел крестьянскому мальчику Джеймсу Фиппсу (James
Phipps) гной, взятый из оспенного пузырька, который появился на
руке Сары Нельмс (Sarah Nelmes), доярки. До этого момента никакого
особого вреда не причинялось, так как хорошо известно, что коровья
оспа для человека не представляет опасности. Но потом события стали
развиваться в направлении опасных экспериментов, и спустя два месяца
Дженнер ввел своему "подопытному кролику" оспу.3
Все прошло хорошо. Ребенок оказался устойчивым, благодаря вакцинации
- по меньшей мере, такой вывод сделал Дженнер. Вместе с тем, в наши
дни этот вывод выглядит как минимум преждевременным, и это типичный
случай, когда делается ошибка post hoc, ergo propter hoc (после
этого, следовательно, вследствие этого). На самом деле, в XVIII
веке оспой заражалось примерно 65% британского населения, но умирали
от нее только 8,5, а серьезная, хоть и не смертельная болезнь развивалась
лишь у 20%.
Таким образом, остается 70%-ная вероятность того, что мальчик, которого
Дженнер использовал в качестве подопытного кролика, принадлежал
к 35% людей, обладающим природной устойчивостью, и вопрос о том,
а оказала ли на него вакцинация какое-либо влияние, по-прежнему
актуален. В любом случае, моральная проблема этой истории заключается
в неоспоримом факте, что Дженнер использовал малька в качестве подопытного
кролика, произведя над ним самую настоящую вивисекцию (см. примечание
1, главу
3). В 1798 году Дженнер опубликовал результаты своей работы
в труде "Исследование сущности и эффектов вакцины от оспы"
(Inquiry into the Causes and Effects of the Variola [smallpox] Vaccine).
Экспериментирование на детях и взрослых сейчас стало обычным. Я
сейчас говорю не только о работе тех людей, которых может оправдывать
какая-то душевная болезнь, а скорее о целых командах людей, задействованных
в институтах - то есть, комплексах огромных зданий, сложной аппаратуре
для научных исследованиях и профессионалах, имеющих разные обязанности,
например, докторах, биологах, химиках, физиках, администраторах
и техническом персонале. Все они присутствуют в Национальном Институте
рака в США. Ниже я приведу сообщение, напечатанное в Il Giorno 19
апреля 1982 года на основе статьи Джулиано Дего (Giuliano Dego)
из Washington Post:
"Лечение рака в США хуже, чем сама болезнь.
В ходе скандала, который разрастается, подобно масляной пленке,
Национальный Институт рака признался, что производил экспериментальное
лечение рака с использованием более опасных средств, чем сама болезнь.
В последние два года Институт был ответственен за лечение десятков
тысяч пациентов, в том числе множества детей, с использованием более
150 экспериментальных лекарств".
Обратите внимание на повторение слова "дети" и рост цифр:
это уже не 39 жертв доктора Кругмана и не шесть египетских детей
- сейчас речь идет о десятках тысяч пациентов. Далее в статье говорится:
"Смерть от многих из этих лекарств оказалась значительнее болезненнее,
чем если бы пациент умирал от самого заболевания".
Это типичная и страшная особенность вивисекции: причинение вреда
из-за пренебрежительного отношения к жизни, и кто оказался жертвой
- животное или человек - смысла не имеет.
"Washington Post [продемонстрировала, что] число смертей, связанных
не с раком, а с экспериментальными лекарствами, которые были призваны
вылечить его, составляет 620.
Роберт Янг (Robert Young), руководитель Управления по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and
Drug Administration), признал: "Временами слишком мало внимания
уделяется человеческой жизни". В Бостоне больница при работе
с некоторыми детьми использовала новое лекарство из Национального
Института рака (National Institute for Cancer). В течение нескольких
дней у них отказали почки. Но не удивляет тот факт, что использование
этих лекарств стало делом обычным, и никто не думает о людях, получающих
их".
Далее в статье говорится:
"Как действуют эти смертельные лекарства? Они вызывают сотни
смертей из-за отказа печени, почек и сердца, болезней дыхательной
системы, разрушения костного мозга, повреждения головного мозга,
паралича, инсультов и комы".
А если учесть, что речь здесь идет о предположительно противораковых
лекарствах, то нижеследующее предложение звучит почти комически:
"Некоторые из этих лекарств стимулируют развитие опухолей и
рака".
До настоящего момента читатель мог предположить, что эксперименты
проводились только на тех пациентов, у которых имеются раковые заболевания.
Но предложение, процитированное выше, опровергает это: на самом
деле, рак развивался у некоторых пациентов, ранее не имевших
его. Вот вам развенчание заявления, что для пациентов, которых
нельзя вылечить иными способами, вылечить делается все возможное
в принципе. И вот вам откровенный пример экспериментирования.
Journal of the American Medical Association от 1 января 1982 года
опубликовал дальнейшие свидетельства того, что эти лекарства канцерогенны.
"Обнаружено, что некоторые виды химиотерапии оказывают канцерогенное
действие на пальцы медсестер (согласно формулировке, предположительно
здоровых). Ношение перчаток не обеспечивает защиты. Кончики их пальцев
становятся флуоресцентными и остаются таковыми после мытья".
Наконец, мне бы хотелось вынести особую благодарность анонимному
работнику Национального Института рака за его объяснение, представляющее
собой попытку оправдать экспериментирование на людях:
"Наша теория заключается в том, что действительно должно быть
химическое вещество, излечивающее рак. Мы решили, что единственный
способ открыть его - это вводить миллионы веществ в вены людей".
Если предположить, что каждый продукт надо вводить в вены сотен
субъектов (необходимый минимум, чтобы действие лекарства можно было
высчитать статистически), потребуются сотни миллионов людей. С людьми
будут обращаться, как с мышами.
Вместе с тем, мне хотелось бы заверить читателей, что мое отношение
к таким сообщениям - критическое. Не следует предполагать, что я
чересчур серьезно отношусь к словам глупого работника из Национального
института рака. Но один неопровержимый факт остается: нельзя отрицать
того факта, что подобный тип людей существует, какими бы глупыми
ни казались, и они вовсе не уникальны - их много, они есть везде
в вивисекционных лабораториях.
Мир вивисекторов тщательно защищен и стоит на прочном фундаменте.
В нем нет недостатка денег (от фармацевтической промышленности,
государственных и частных субсидий), он имеет поддержку от академического
мира и университетов, и закон на его стороне - закон, который может
систематизировать укоренившиеся идеи, но неспособен производить
новые. Более того, вивисекцию поддерживают такие структуры как больницы
и клиники с персоналом в белых или зелено-голубых халатах, с масками
для лица, в стерильных колпаках и перчатках - они крепко держатся
за умы общественности, которая надеется на уменьшение боли или жизнь
хотя бы немного подлиннее. Можно потерять надежду на победу в борьбе
с таким истеблишментом или хотя бы на подрыв их догм.
Самая неожиданная помощь от антививисекционистов пришла от самих
вивисекторов, когда последние решили пересечь границу между экспериментированием
на животных и людях. Это означало признание того, что экспериментирование
на животных бесполезно, и обеспечивает доказательство именно той
идеи, на которой держится все антививисекционистское мышление.
Помимо активных экспериментов (целенаправленное нанесение ран, введение
потенциально опасных веществ и т.д.), существуют также пассивные
эксперименты, которые заключаются в воспрепятствовании вмешательствам,
полезным для благополучия человека.
• В 1905 году Уильям Флетчер (William Fletcher) разделил пациентов
психиатрической больницы (в Куала-Лумпуре, столица Малайзии) на
две группы, каждая по 120 человек. Первую кормили полированным
рисом, вторую - неполированным. 43 человека из первой группы заболели
бери-бери, а 18 из них умерли4.
• В 1932 году Отделение венерических болезней в Службе здравоохранения
США одобрило проект Таскиджи (названный в честь небольшого городка
недалеко от Монтгомери, столицы Алабамы). В нем было задействовано
более 400 темнокожих людей, зараженных сифилисом, и они не получали
абсолютно никакого лечения: цель состояла в изучении естественного
хода болезни до тех пор, пока не наступало поражение центральной
нервной системы (сухотка спинного мозга), и пациент умирал5. Этот
эксперимент продолжался до 1969 года - 30 лет прошло после открытия
пенициллина, который мог бы защитить жертв от самых серьезных
последствий болезни.
• Нижеследующий эксперимент проводится в США, в резервации Навахо
с 1970 по 1975. Племя навахо, вынужденное жить в резервации, лишенное
прежних территорий, которые в течение многих веков гарантировали
им благополучную жизнь, поддерживало свою этническую и культурную
идентичность, отказывалось от технологической цивилизации и из-за
обеднения стало жить в тесных домиках из дерева и грязи, в антисанитарных
условиях и питаться скудно. Эксперимент заключался во введении
по резервации самого современного медицинского обслуживания с
кабинетами врачей и оборудованием, знаменитыми специалистами,
техническим персоналом и первоклассным уходом. Вместе с тем, аборигенам
разрешали жить в естественных для них условиях. Через пять лет
частота туберкулеза и воспаления среднего уха у детей немного
снизилась. Во всем остальном смертность и заболеваемость оставались
неизменными. Что продемонстрировал этот эксперимент? Он показал,
что здоровье людей зависит от окружающей обстановки, и что современная
высокотехнологичная медицина неспособна вылечить болезни, вызванные
условиями жизни. Конечно, исследователи ожидали совершенно иной
результат, и это объясняет, почему они позаботились о том, чтобы
не повторять тот эксперимент и не расширять его масштабы, ведь
он может разрушить доверие к тщательно защищаемому и прибыльному
истеблишменту - к медицинской индустрии.
Вышеприведенные примеры показывают, насколько оправдано беспокойство
антививисекционистов, знакомых с медицинской практикой, которая
становится все более и более жестокой под воздействием вивисекционного
мышления и методов. Но больше всего следовало бы беспокоиться самим
врачам, потому что именно они должны нести заповеди учения, низводящего
их до агентов от индустрии здравоохранения. И в действительности
число врачей, которые протестуют против вивисекционистского мышления,
растет.
Вивисекционисты, опираясь на свою власть, тут же приводят доводы
с целью напугать своих оппонентов - не сколько врачей с определенной
позицией, сколько тех, кто постепенно начинает двигаться к антививисекционной
медицине с ориентиром на человека. Ортодоксальная наука, которая
без оснований приписывает себе весь прогресс в современной медицине,
обвиняет колеблющихся врачей в непоследовательности: "Я вижу,
вы не против использования тех методов диагностики и лечения, которые
уже были тестированы на животных". Вернер Хартингер (Werner
Hartinger) отвечает на этот вызов со вкусом шантажа следующее:
- Тот факт, что опыты на животных были раньше и продолжаются до
сих пор, не доказывает, что они обязательны для здоровья человека.
- Тот факт, что врач использует аллопатические лекарства, не означает,
что он согласен с экспериментированием на животных или признает
их рациональность6.
- Тот факт, что (помимо нежелательных побочных эффектов) могут
быть получены более или менее полезные результаты, не означает,
что аналогичные или лучшие результаты нельзя получить через другие
методы.
- О том, можно ли переносить на человека результаты работы с животными,
можно судить лишь после сравнения полученных результатов с итогами
соответствующих экспериментов, проведенных на человеке. Если это
не сделано, то произвести какую-либо правомерную оценку невозможно.
- Следовательно, диагностика и лечение болезни у человека основывается
не на экспериментировании с животными, а на клинических испытаниях,
которые проводят с людьми.
Моральная проблема для вивисекционистов
Вместе с тем, кажется, что вивисекторы - не обязательно циничные
монстры, какими бы их хотели видеть антививисекционисты. Сторонники
вивисекции тоже сталкиваются с проблемой, с моральной проблемой,
но происходит это совершенно противоположным образом - и, как бы
невероятно то ни звучало, они идут бок о бок со многими любителями
животных, озабоченными теми же проблемами. Таким образом, когда
общественность соединила в своем сознании ученых-антививисекционистов,
борющихся против вивисекции по причине ее вреда для медицины, со
старыми женщинами, подкармливающими бездомных кошечек, вивисекторы
вдруг становятся очень сострадательными при мысли о судьбе несчастных
кошек, которых они истязают. Но (согласно им) перестать мучить кошек
невозможно, потому что это бы означало "конец медицинской науки".
Вместе с тем, они могли бы сократить количество животных, используемых
в экспериментах - иными словами, сохранить качество пыток, но снизить
количество.
Вивисекционисты этой школы и некоторые защитники благополучия животных
оказываются по одну сторону баррикад и таким образом поддерживают
друг друга. Здесь я вспоминаю слова Ганса Рюша (Hans Ruesch), основоположника
антививисекционизма: "Сторонники благополучия животных - наши
самые страшные враги". Это утверждение созвучно с известной
пословицей: "С такими друзьями и враги не нужны". Они
предлагают сокращать количество животных через избегание повторов
и другими несущественными способами. То есть, скорее всего после
обнаружения зла они смогут немного утешить антививисекционистов:
"Благодаря нашим колоссальным усилиям, в этом году число убиваемых
животных снизилось с 200 до 180 миллионов".
Также есть благородные люди, которые выступают за запрет вивисекции
ради "легкомысленных" целей, таких как косметика, но хотят
сохранить ее для более "серьезных" целей, таких как медицина.
Это равнозначно отнесению вивисекции к "серьезной" работе,
которую следует уберечь для таких "солидных" областей
как физиология, патология, терапия, хирургия - короче, для системы
медицины, которую теперь все сложнее воспринимать всерьез именно
из-за вивисекционистской методологии.
Когда ученые-антививисекционисты осуждают эксперименты на животных
с этической точки зрения, то они основываются на соображениях морали
применительно к людям, а аргументы в пользу животных оставляют защитникам
прав животных и сторонникам законов о животных. Наши же этические
доводы, связанные с защитой людей, находят подтверждение в двух
плоскостях: в истории прежних времен и в дне сегодняшнем.
Прежде всего, история свидетельствует о том, что после двух веков
вивисекции и миллиардов экспериментов на животных не снизилось ни
число заболевших людей, ни количество смертельных болезней. Лекарства
оказались способны воздействовать только на бактериальные и паразитические
болезни (но не на вирусные) посредством убийства микроорганизмов,
вызывающих эти болезни. Все другие серьезные и смертельные болезни
находятся на подъеме, и все, что мы имеем против них, - это определенные
лекарства, которые в некоторых случаях могут повлиять на отдельные
симптомы - но этот эффект не всегда подлежит оценке и часто непропорционально
мал по сравнению с вредом (его называют эвфемизмом побочные эффекты),
который могут причинить некоторые лекарства. Более того, никогда
должным образом не учитывается эффект плацебо.
Во-вторых, то, что происходит в нашей жизни, очевидно для всех.
Экспериментирование на людях растет со страшной скоростью. И речь
тут идет не о простом законном клиническом экспериментировании,
а о настоящем вивисекционном экспериментировании. Таблицы 10.1 и
10.2 показывают некоторую статистику растущей смертности от самых
простых болезней.
Таблица 10.1. Смертность от разных причин, Швейцария,
1930 и 1978 годы, рост в процентах
| Причина смерти |
1930 |
1978 |
Рост в процентах |
| Рак |
5994 |
13802 |
132 |
| Диабет |
445 |
1207 |
171 |
| Лейкемия |
95 |
340 |
257 |
| Сердечно-сосудистые заболевания |
5074 |
18071 |
260 |
| Заболевания печени |
382 |
839 |
108 |
| Население |
4066000 |
6298000 |
50 |
Таблица 10.2. Статистика по раку в США и Италии,
показывающая рост в процентах
| США |
1971 |
1981 |
Рост в процентах |
| Рак: число случаев |
330000 |
420000 |
21 |
| Италия |
1940 |
1969 |
Рост в процентах |
| Рак: смертность на 1000 |
80 |
184 |
130 |
Источник: Speciani, 1984
Три R: подарок для вивисекторов
Сокращать - совершенствовать - заменять (Reduce - Refine - Replace):
авторами этой идеи, поддерживающей вивисекцию и опубликованной в
"The Principles of Human Experimental Technique", были
зоолог Уильям М.С. Рассел и микробиолог Рекс Л. Берч (Russel и Burch,
1959).
Первая R, Reduce - сокращать число животных в экспериментах. Часто
вивисекторы говорят: "Мы работаем во благо человека, во благо
всех. И для этой благородной цели нам надо экспериментировать с
животными. Тем не менее, из нашей большой любви к природе и животным
мы разработали оптимальные методы для отработки нашей нежелательной
жестокости на меньшем числе животных".
Вторая R, Refine, совершенствование методологии. Мы очень хорошо
знаем, что вивисекционные методы пыток очень "совершенны".
Но, безусловно, у вивисекционистов есть возможность совершенствовать
их жестокость еще больше (хотя в защиту они заявляют, что имеют
в виду искоренение жесткости из системы, которая, по нашему убеждению,
не должна существовать ни при каких условиях из-за своей научной
неправомерности; точно так же для первого R единственно правильным
числом является ноль).
Третья R, Replace, замена опытов на животных другими методами. Из
всех трех R эта, пожалуй, самая хитрая. Рассуждение выглядит следующим
образом: "Мы больше не можем противостоять растущему общественному
осуждению вивисекции. Тем более мы не можем встретить научные аргументы,
доказывающие, что вивисекция это не столько преступление против
животных, сколько против человека. Поэтому давайте поиграем. И самый
безопасный способ - это показать людям, что мы изучаем методы, заменяющие
опыты на животных. Люди знают, что их исследование займет время
- необходимое нам для продолжения нашей грязной работы" (конечно,
здесь предполагается, что "эффективные" опыты можно заменить
на другие, обладающие такой же эффективностью - в результате, происходит
реабилитация нынешней системы, по меньшей мере, с научной точки
зрения; именно с такой постановкой вопроса антививисекционисты борются).
Верх мерзости: экспериментирование с человеческими зародышами
Мы забрались на вершину горы. Восхождение, которое началось с Гальвани,
экспериментировавшего с лягушками, и продолжилось серией экспериментов
на млекопитающих, в том числе приматах, достигло верхней точки -
экспериментирования на людях. Но прежде чем комментировать это,
давайте исключим возможное непонимание.
Я тут не говорю о клинических испытаниях - последней и необходимой
стадии проверки любого лекарства. Клинические исследования - это
обязательная ступень, она логична и законна, при условии, что ее
проводят квалифицированные врачи, с использованием надежного оборудования,
а за наблюдением клинических симптомов следует лабораторный анализ,
способный быстро показать, какие изменения в разных органов может
вызвать данное лекарство, еще не совсем известное. Таким методом
можно обнаружить и побочные эффекты, вызывающие беспокойство у врачей
и постоянно напоминающие им о необходимости осторожности.
Но у вивисекционистов уровень экспериментирования уже значительно
превысил сказанное. Я понимаю, что обсуждать столь шокирующие факты
не очень-то хочется, но опыты проводятся на человеческих зародышах,
и я думаю, что это до сих пор производится секретно, в разных обстоятельствах
и с разными целями. В начале 1980-х годов в Европе и США появились
страшные доказательства подобных экспериментов.
В марте 1981 года на французско-швейцарской границе французские
таможенники осмотрели грузовик с холодильниками. Странами-экспортерами
были Венгрия и Югославия, импортеры товаров французских косметических
фирм. У таможенников появились сомнения из-за высокой стоимости
провоза товаров. Холодильник открыли, и в морозильном отделении
обнаружились сотни замороженных эмбрионов.
На самом деле, первые свидетельства этой торговли появились даже
раньше. В 1977 году японская газета "Asahi Shimbun" разоблачила
торговлю зародышами между Южной Кореей и США через Японию по скромной
цене 25 долларов за штуку. Позже стало известно, что траффик производился
в течение шести лет, а в год транспортировалось около шести тысяч
зародышей. Перевозчиком была авиакомпания Japan Airlines. Лауреат
Нобелевской премии Джордж Уолд (George Wald) сообщил, что с 1970
по 1978 в западные страны из Южной Кореи было ввезено примерно 1200
почек от человеческих эмбрионов. В тот же самый период в Южной Корее
число искусственных абортов значительно возросло: в 1970 году их
число было немного ниже, чем количество родившихся детей, а в 1977
году число абортов в три раза превысило число родов8.
Возникает еще один вопрос. Не может ли быть, что покупатели для
экономии на стоимости транспортировки с другого континента стремятся
искать (и находят) "сырье" в своей стране, то есть, во
Франции, Италии, Великобритании и США? На эту тему есть хорошо документированное
новостное сообщение из США, напечатанное 8 февраля 1982 года во
французской газете "Lib?ration". В городе Санта-Моника
(штат Калифорния) подозрения вызвал контейнер, который находился
поблизости заброшенной клиники, ранее принадлежавшей некоему Мелу
Вейсбергу (Mel Weisberg). Позже выяснилось, что он заплатил поставщикам
контейнера чеком, а его не приняли. Фирма, которая сдала внаем контейнер,
пришла забрать его назад, открыла его и обнаружила "более 500
человеческих зародышей, хранившихся в формалине в пластиковых контейнерах,
а на их этикетках значились фамилии доноров" (то есть, матерей).
Приведенные здесь журналистские сообщения единичны и фрагментарны.
Кажется, что их предусмотрительно поместили на внутренние полосы
газет. Почему?
Я думаю, что на лице читателей появится вопросительный взгляд, а
может быть, и выражение надежды - ведь это всего лишь мертвые
зародыши, а еще лучше - эмбрионы, то есть, продукты зачатия, которые
не продукты зачатия, не прожившие в матке и восьми недели. Но дело
в том, что для этой торговли зародышей достают следующим образом.
Существуют клиники, специализирующиеся на абортах. Когда женщины
обращаются туда, то опытные мастера уговоров убеждают их сохранять
беременность как можно дольше (чем более развитый зародыш, тем выше
цена). В согласованное время плод изымают посредством кесарева сечения.
Поскольку во многих случаях это происходит на двадцать восьмой неделе
(между шестью и семью месяцами беременности), речь тут идет уже
не о зародыше, а о двигающемся, плачущем младенце.
Вот что двое журналистов, М. Лихтфильд (M. Lichtfield) и Сьюзан
Кентич (Susan Kentish), сообщают о разговоре с британским гинекологом,
который был поставщиков эмбрионов. Они сказали ему, что являются
представителями возможного покупателя. "Однажды утром их родилось
четверо, один за другим. Они плакали, но у меня не было времени
убить их сразу, потому что в то утро у меня было много дел. Я не
жестокий человек, но реалист. Если Вы не хотите, чтобы Ваши суждения
оказывались закрыты сентиментальностью, то нужно быть человеком
науки и неэмоциональным" (Lichtfield and Kentish, 1974, выделение
добавлено).
Из сказанного мною на данный момент может показаться, что желание
проводить опыты на людях появилось недавно, вследствие осознания
бесполезности опытов на животных. Но это не так. Еще в XIX веке
высказывались сожаления, что вивисекция человека - это "очень
желанная, но недостижимая цель". Клод Бернар отстаивал "вивисекцию
людей как конечную цель экспериментальной медицины". Позднее
Е.Е. Слоссон (E.E. Slosson), профессор Университета Вайоминга (University
of Wyoming)9, заявил: "Человеческая жизнь - ничто по сравнению
с новым открытием. Главная цель Науки - продвижение человеческих
знаний ценой любых человеческих жизней" ("The Independent",
12 декабря 1985, выделение добавлено).
Мы дошли до двух конечных вопросов: для чего используются эти зародыши
и продолжается ли эта практика в некоторых странах. Ответ нас разочарует:
это неизвестно. Причина в том, что все происходит за закрытыми дверями
исследовательских институтов, фармацевтических и косметических компаний
и "научных" лабораторий, где паролем является слово "молчание".
Для человека, верующего в науку и принимающего ее без критики, оправданием
опытам с человеческими зародышами кроется в мифе о продвижении науки.
Но действует ли этот довод, когда одной из целей оказывается всего
лишь разработка косметики?
Более того, по-видимому, зародыши для биомедицинских и косметических
исследований получаются не вследствие самопроизвольных абортов.
Гонзало Эрранс (Gonzalo Herranz), профессор гистологии и человеческой
эмбриологии в университете Наварре (Испания) четко указал на это,
когда разъяснял использование эмбриональных тканей для культур клеток:
"Для получения зародышевых клеток нельзя использовать эмбрионы
от самопроизвольных абортов и от искусственных абортов, производимых
через влагалище: в обоих случаях эмбрион будет загрязнен микроорганизмами.
Правильный способ заключается в прибегании к кесареву сечению или
к удалению матки. Только так можно гарантировать бактериологическую
стерильность. Следовательно, в обоих случаях для получения эмбриональных
клеток для культуры надо произвести запрограммированный аборт, выбрав
возраст эмбриона, и для изъятия тканей и помещения их в питательную
среду препарировать эмбрион, пока он ещё жив.
При таких условиях мы сталкиваемся с дилеммой, оправдано ли умышленное
и регулярное уничтожение человеческого существа для получения клеточного
материала, если оно представляет большую важность для фундаментальных
исследований и диагностики некоторых человеческих болезней. Представляют
ли исследование и диагностика такую большую ценность, что ими можно
оправдать убийство человека?
Декларация Постоянного Комитета врачей Европейского сообщества (Permanent
Committee of Medical Doctors of the European Community) и Всемирной
медицинской ассоциации (World Medical Association), опубликованная
в 1985 году, утверждает: "Человеческий зародыш следует рассматривать
не как лабораторный материал, а скорее как потенциального человека.
Отношение, вытекающее из сказанного, подразумевает, что любое исследование
должно подчиняться Хельсинской и Токийской декларациям, которые
были приняты в 1975 году Всемирной Медицинской Ассоциацией".
Вот выдержка из этих деклараций: "Забота об индивидууме должна
всегда превалировать над интересами науки и общества… доктор медицины
обязан защищать жизнь и здоровье людей, участвующих в биомедицинских
исследованиях".
Мне не кажется, что эти принципы совместимы с запрограммированными
абортами для получения культур клеток. Я не могу думать иначе, даже
если сами женщины хотят прервать беременность, и, несмотря на то,
что тут происходит объединение интересов науки, диагностики и коммерции
для создания такой атмосферы, при которой подобная практика кажется
желательной. Женевская Декларация (см. приложение) утверждает, что
врач обязан самым тщательным образом охранять жизнь человека, начиная
с зачатия, и что даже под угрозой не должен использовать свои знания
для нарушения законов. Человеческие эмбрионы - самые слабые члены
семьи человека. В случае аборта они оказываются объектами несправедливой
дискриминации. В отличие от того, что происходит с другими притесняемыми
меньшинствами, в ситуации с человеческими эмбрионами почти никто
не способен их защитить.
Следовательно, мой общий вывод таков. Поскольку опыты на животных
ложны и вводят в заблуждение, и поскольку использование человеческих
эмбрионов, полученных посредством не спонтанного, а элективного
аборта неэтично, мы должны заключить, что следует отказаться от
всех in vitro культур человеческих эмбриональных тканей, признавая,
вместе с тем, научную эффективность этого вида исследований".
В данном случае может возникнуть логическое возражение: правомерно
ли оставлять науку без метода, который, даже по мнению некоторых
антививисекционистов, не только очень ценен в настоящее время, но
еще и более перспективен в будущем? Если взглянуть объективно, то
ситуация окажется не настолько страшной, как ее изобразил профессор
Эрранс. Чтобы получить культуру клеток (или клеточный штамм), требуется
лишь малое количество ткани. Таким образом, один орган (печень,
соединительная ткань, эпидермис) может дать много культур. То есть,
один зародыш может обеспечить достаточно материала, если его
использовать рационально.
Вместе с тем, нерешенными остаются две проблемы.
1. Жизнеспособность эмбриональных органов.
2. Их бактериологическая стерильность.
Относительно первого пункта: если установлено, что смерть эмбриона
произошла естественным путем, то имеет место новая логика; и она
такая же, как та, что позволяет нам вскрывать трупы. Если мы находим
эту идею неприемлемой, то нам следует отказаться и от практики вскрытий,
что переносит нас в совершенно иные миры.
Вторая проблема - бактериологическое загрязнение эмбриона - тоже
не кажется мне неразрешимой, потому что:
1. Бактериологическое загрязнение, которое происходит при прохождении
эмбриона через влагалище, касается только внешних тканей (кожи,
слизистых оболочек отверстий), но не внутренних органов.
2. При посеве образцов тканей в культуру клеток мы легко может посеять
в бактериологическую среду те же самые образцы, чтобы понять, имело
ли место загрязнение бактериями. Если да, то всегда можно уничтожить
зараженные культуры и сделать свежие.
Вместе с тем, позвольте мне завершить эту главу тревожной нотой,
иллюстрирующей, в какой мере абсурдные привычки, которые были унаследованы
от вивисекции, внедрились в нашу культуру и научную практику. Возможно,
вследствие описанных мною трудностей с получением человеческих эмбриональных
клеток в лабораториях институтов и специализированных фирм культивируют
эмбриональные клетки других видов. Затем их используют в экспериментах,
призванных дать ответы на вопросы, связанные с болезнями человека.
Таким образом, методологическая ошибка, лежащая в корне всякого
вивисекционистского мышления, увековечилась и расширилась. Ошибка
остается, а внимание перемещается с животного как целого на его
клетки - с теми же неверными результатами, от которых многие исследователи
явно не желают отказываться.
Примечания
1. Больница Виллоу Брук (Willow Brook), Статен-Айленд, Нью-Йорк.
2. Этот эпизод имел место в Абу-Хемусе (Abu Hemus) 16 июня 1976
года в 9 часов утра. Фирма та была базельская "Сиба-Гейги",
и она использовала пестицид галекрон. Вот имена мальчиков и их
возраст: Мохаммед Али, 12 лет, Саид Хассан, 14 лет, Хавад Эсмаэль,
12 лет, Маброк Мустафа, 10 лет, Захариа Абду, 18 лет и Рагаб Эль
Азиз, 14 лет. Результаты экспериментов описаны в докладе от 10
сентября 1976 года "Медицинская программа наблюдения"
под редакцией агрохимического отделения "Сибы-Гейги".
Тот же самый пестицид производила под названием фундал немецкая
фирма "Шеринг" (Schering). О токсичности продукта было
известно еще до эксперимента в Египте, и подтверждение тому -
изъятие его из продажи в тот же год (L'Unitá, 24 апреля
1983 года, в статье Пьера Луиджи Беллона (Pier Luigi Bellon),
профессора химии в Университете Милана). Другой пестицид, лептофос
производства США, смертелен не только для насекомых - он также
вызывает серьезные неврологические нарушения у рабочих, производящих
его. Тем не менее, нераспроданный запас отправили в Египет; количество
человеческих жертв не установлено, но установлено количество жертв
среди крупного рогатого скота от него - около тысячи голов (из
статьи Джорджио Селли - Giorgio Celli, L'Espresso, 14 апреля 1987,
192).
3. Вирус коровьей оспы, который вызывает кожное заболевание у
скота, обнаруживаемое по пузырькам или пустулам на вымени, также
поражает человека при прямом контакте ("болезнь доярок").
Он очень сходен с вирусом натуральной оспы, которая безвредна
для скота, но вызывает очень серьезную болезнь у человека. Эти
два вируса имеют два общих антигена; поэтому антитела, стимулированные
одним вирусом, сходны с теми, которые были стимулированы другим,
при этом наблюдался взаимно защитный эффект (перекрестный иммунитет).
В Индии вакцинацию от оспы практиковали с древности, а в Китае
с 1063 года нашей эры материал для прививки брали из пузырьков
тех, у кого болезнь происходила в мягкой форме. В 1718 году леди
Вортли Монтаг (Wortley Montague), жена британского посла в Турции,
ввела данный метод в той стране.
4. Бери-бери (по-сиамски "бери" - слабость) - это болезнь,
вызванная недостатком витамина B1 и характеризующаяся слабостью,
полиневритом и снижением умственных способностей. Она приводит
к сердечной недостаточности.
5. Сухотка спинного мозга (двигательная атаксия) возникает на
третьей стадии сифилиса и являет собой результат склероза (уплотнения)
спинного мозга. Она вызывает стреляющие боли, утрату координации
движений конечностей, потерю чувствительности кожи, боли в животе,
гортани и прямой кишке, изменения в суставах, нарушения зрения,
а на последних стадиях - нарушение работы сфинкстеров.
6. Аллопатия (от греч. аллос - другой + патос - страдания). Современные
западные методы лечения направлены на создание "противоположного"
эффекта, то есть, излечение болезни (сравним с гомеопатией, от
греч. гомо - подобный, то есть "лечение подобным").
7. Werner Hartinger, Mensch und Tier: Geschwister der Evolution,
Klosters: CIVIS.
8. Заявление Джорджа Уолда (George Wald), приводится в Ronalde
Girard, Le Fruit de vos entrailles.
9. C. Bernard, Principes de Médicine Expérimentale
(опубликовано после смерти).
10. Профессор Гонзало Эрранс (Gonzalo Herranz) в то время был
президентом Комитета по медицинской этике испанских докторов и
вице-президентом Постоянного Комитета по медицинской этике в Европейском
сообществе.
11. Из статьи профессора Эрранса в "Il Sabato" (№15,
26 апреля 1986) в ответ на предшествующую статью в том же самом
журнале, ее авторы - Паоло Чуччиарелли (Paolo Cucchiarelli) и
Марина Риччи (Marina Ricci).
11.
Генная инженерия: новая грань
Наша эпоха может стать веком генной инженерии,
но история учит, что он закончится, как и все остальные эпохи. Примерно
40 лет назад неудачей закончилась эпопея со стерильными (беспатогенными)
животными (см. главу 4). Тогда с ними связывали множество надежд,
но все увенчалось полным провалом, не заметным ни для кого - за
исключением экспертов, которые скрыли его. Но в случае с генной
инженерией ставки намного выше, потому что она обещает вылечить
такие смертельные либо калечащие человека болезни как онкологические
заболевания и артрит, а также разные наследственные заболевания,
связанные с энзимами.
Геном
В каждой клетке - миллиарды таких клеток образуют человеческий и
животный организмы - передача соматических характеристик происходит,
благодаря генам. Хромосомы состоят из генов, и сами хромосомы содержатся
в клеточном ядре. Каждая клетка индивидуального организма, независимо
от своей функции (почечная, печеночная, кишечная, мышечная, мозговая),
содержит одни и те же гены, которые вместе образуют геном.
Ген
Ген это отдел ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты), который состоит
из нуклеотидов, содержащих четыре основания (аденин, цитозин, тимин
и гуанин). Каждый ген относится только к одной соматической характеристике.
Поскольку генов насчитывается от 70000 до 100000, каждый индивидуум
обладает набором особенностей и передает их своему потомству. Каждая
из 46 человеческих хромосом имеет размер примерно три микрона (1/3000
миллиметра) в длину и содержит около 2000 генов. Исходя из этого,
можно высчитать, вернее, представить себе размер отдельного гена,
который сфотографировать удается только при помощи электронного
микроскопа.
Типы и цели человеческой генной инженерии
Давайте сосредоточим внимание на двух видах генной инженерии - непрямой
(выполняемой на геноме животного) и прямой (выполняемой на геноме
человеческого зародыша). Непрямой тип стремится дать животному (отличному
от человека), характеристики, совместимые с человеческой иммунной
системой, так чтобы его органы можно было использовать для пересадки
человеку без риска отторжения. Наиболее часто с этой целью используются
свиньи, телята, шимпанзе и бабуины.
Прямой тип манипуляций с человеческим геномом направлен на устранение
у человеческого зародыша тех генов, которые являются переносчиками
наследственных болезней (или тех, которые подозревают в наследственном
характере передачи). Среди них рак, артрит, диабет, муковисцидоз,
некоторые формы эпилепсии, болезнь Альцгеймера и сотни других "наследственных"
болезней, некоторые из которых (например, депрессия и склонность
к самоубийству) традиционно считались поведенческими.
Местоположения генов
Ген слишком мал, чтобы его можно было увидеть через оптический микроскоп.
Следовательно, первый шаг в процессе генной инженерии состоит в
набрасывании генетической "карты", где будут нанесены
местоположения отдельных генов в хромосоме, а также их функции.
Это закладывает основу для всех дальнейших процессов, от генетической
проверки лекарств до генетического изменения соматических и половых
клеток. В настоящий момент выявлено и введено в Online Mendelian
Inheritance on Man, американскую базу данных, местоположение более
16000 генов (20%). Но мне хотелось бы подчеркнуть, что достоверной
оценки их клинических функций еще нет; для этого, скорее всего,
потребуется еще как минимум 20 лет.
Есть и другие проблемы. Прежде всего, до сих пор неизвестно потенциальное
взаимодействие между трансплантированным геном (взятым, возможно,
у животного) и генами хозяйского генома. Во-вторых, многие наследственные
болезни связаны более чем с одним геном, поэтому невозможно предсказать
последствия инженерных манипуляций, которые выполняются на ряде
взаимосвязанных генов. Если какое-то решение этой проблемы и будет
найдено, то на его поиск уйдут многие годы.
Приёмы
Для вставки либо удаления гена используются генетически модифицированные
вирусы, многие из которых разрушают иммунную систему. Это само по
себе создает трудную техническую проблему, но гораздо больше беспокоит
вопрос, а насколько несомненна безвредность модифицированных вирусов,
и останутся ли они безобидными. Доказано, что вирусы очень
склонны к спонтанным мутациям, и самые лучшие примеры представляют
собой вирусы гриппа и СПИДа. Следовательно, стоит ли проявлять беспечность
с вирусами, которые с помощью генетических модификаций якобы переведены
в разряд безвредных?
Успехи
Генетическая диагностика показала, что с наследственными болезнями
связано примерно 750 генов. С одним геном связаны такие распространенные
болезни как муковисцидоз, хорея Гентингтона и дистрофия мышц. Вместе
они представляют 2-3% от известных болезней. Но генная инженерия
не вылечит эти три болезни, равно как и множество других. В лучшем
случае она не даст человеческим эмбрионам получить их. Очень маловероятно,
что нынешних больных как-либо успокоит факт идентификации ответственного
гена. Выражаясь более широко, кто заинтересован в знании того, что
его шанс получить определенную болезнь равен значению x, а не y,
как у большинства?
Непредсказуемые эффекты
Те, кто занимаются генной инженерией и поддерживают ее, должны принять
во внимание не предрассудки и мнения, а факты, и тщательно соотнести
реальные риски с обещаемыми благами. Хартингер (Hartinger, 1995)
дает несколько примеров.
• Генетические манипуляции с некоторыми бактериями дали очень
неожиданные результаты, которые, к тому же, отличаются, в зависимости
от лаборатории. Никто не может гарантировать, что то же самое
не произойдет в случае с человеком - и последствия окажутся катастрофическими.
Например, в одной лаборатории бактерия Escherichia coli вызвала
образование красителя, а в другой этот обычно безвредный микроорганизм
стал патогенным.
• Австралийские ученые модифицировали у мышей ген TGF-alpha (который
влияет на рост раковых клеток). Мыши вместо серьезных болезней
получили кудрявую шерсть.
• У овощей изменения генов тоже могут дать странные результаты.
Бобовые растения подвергались модификациям для того, чтобы у них
возросла устойчивость к гербицидам, а у них стал вырабатываться
животных гормон.
• Последствия создания синтетического инсулина, аналогичного естественному
инсулину, посредством генетического изменения бактерий оказались
более серьезными. Аминокислота л-триптофан, так называемый безвредный
побочный продукт, вызвал 30 смертей и 1000 случаев болезней.
Тем не менее, ученые бесстрашно продолжают свои манипуляции на
людях, животных и овощах.
Очевидные победы, реальная польза
Наука о генах совершает чудеса, и мы наблюдаем за ними с тем недоверием,
которое испытывают зрители на шоу фокусников.
Идентификация склонности к преступлениям. Не так давно итальянский
криминолог Чезаре Ломброзо (Cesare Lombroso, 1836-1909) обозначил
преступниками "людей с уродливыми лицами". Общество, ослепленное
верой в науку, восприняло его всерьез. Мы никогда не узнаем, сколько
людей расплатилось за эту странную философию. Но современные генные
инженеры и их сторонники более изощрены и, соответственно, опасны.
Например, согласно Дэниелу Кошланду (Daniel Koshland, главному редактору
"Science"), генная инженерия поможет решить такие проблемы
как наркомания, сексуальное насилие и преступные наклонности - по
его утверждениям, все эти проблемы общества вписаны в гены определенных
людей. В феврале 1995 года корпорация "Сиба" (Ciba Foundation)
провела в Лондоне симпозиум с недвусмысленным названием "Генетика
преступного и антисоциального поведения" (The Genetics of criminal
and antisocial behaviour). Ввиду этого мы можем задаться вопросом,
а имеет ли будущее добрая воля.
Психологический вред. На самом деле, надо ли человеку знать,
какая судьба записана у него в генах? Поможет ли кому-нибудь знание
того, что он обречен на заболевание раком, диабетом, артритом (или
как минимум предрасположен к этим болезням)? Напротив, данная информация
только вызовет беспокойство у человека (если он верит в прогноз),
и психологическое воздействие в перспективе может оказаться разрушительным.
А если людей не беспокоят предсказания генетической науки, то зачем
они нужны?
Социальные последствия. Некоторые промышленные и коммерческие
предприятия уже прибегают к генетическому прогнозированию для подбора
сотрудников. У них даже хватает честности заявить: "Лучше предотвратить,
чем уволить".
Гарантированная прибыль. Некоторые организации (главным
образом компании по страхованию жизни) заинтересованы в продвижении
генной технологии. Их профессиональные мастера уговоров сулят предотвращение
рака, гипертонии и артрита, но настоящая цель этих контор состоит
в увеличении страховых взносов для тех, у кого, согласно генетическому
прогнозированию, повышен риск болезней. Дойдет ли генетическое маркирование
людей до такой стадии, когда застраховать можно будет только самых
здоровых?
Также существует рынок, который с каждым вновь открытым геном становится
все богаче, и он уже предлагает коммерческую самодиагностику рака
яичников и кишечника. В США продается тест BRCA1, который обнаруживает
ген, ответственный за рак груди. Скорее всего, этот рынок будет
расширяться.
Но обеспечит ли тот же самый рынок лечение болезней, которые так
легко диагностировать? Фрэнсис Коллинз (Francis Collins), руководитель
проекта "Человеческий геном" (Human Genome Project) в
США, предупреждает: "В ожидании диагноза, из этических соображений
я никому не советую делать генетические тесты. В настоящее время
они не помогают; они только становятся причиной беспокойства".
12.
Клинические испытания: моральный лабиринт
Существует два подхода к экспериментированию
на человеке: вивисекционистский метод, который использовался в прошлом,
пусть и менее широко, чем в наши дни, и клинические эксперименты,
которые проводятся в больницах и университетах.
Эти два вида экспериментирования не следует путать друг с другом.
Первый - вивисекционистские эксперименты - имеет сходство с опытами
на животных, и он достоин осуждения как по этическим, так и по научным
соображениям. Второй - клиническое экспериментирование - правомерен
с юридической точки зрения, оправдан этически и необходим с позиции
науки. Большинство достижений в медицине, особенно в фармакологии
и терапии, связаны именно с ним. Но клиническое экспериментирование
допустимо в каких рамках и в соответствии с какими правилами? Мы
поговорим об этом позже.
Вивисекционистское экспериментирование
Основная идея научного антививисекционизма выражена в следующем
утверждении: "Никакое экспериментирование на одном виде
не должно экстраполироваться на другой вид". Эту базовую
концепцию приняли не только большинство антививисекционистов, но
и те сторонники вивисекции, которые, понимая ненадежность экспериментирования
на животных, стали использовать человека в качестве экспериментальной
модели для человека. Нам следовало бы рассматривать их как союзников
антививисекционистов, так как они согласны с тем, что межвидовое
экспериментирование следует отвергать. Вместе с тем, они считают
действенным внутривидовое экспериментирование, в то время как антививисекционисты
налагают на него серьезные ограничения, и не только из соображений
этики.
Внутривидовое экспериментирование означает, что человек становится
экспериментальной моделью для вида человек разумный, собака - для
вида "собака", кошка - для вида "кошка", и,
на первый взгляд, в самом деле предлагает привлекательный выбор,
не вызывающий сомнений с точки зрения логики и науки. Но в действительности
это не так. Напротив, внутривидовое экспериментирование во многих
случаях почти так же запутывает, как и межвидовое. Это происходит
потому, что оно базируется на принципиальной позитивистской ошибке,
заключающейся в применении аналитических методов к биологическим
и естественным наукам, и в результате живой организм оказывается
разделен на составляющие части, которые потом анализируют и собирают,
как мозаику, в надежде восстановить и обогатить изначальное сходство
через аналитический процесс. Иными словами, здесь предполагается,
что сумма знаний о частях равна знаниям о целом.
Вместе с тем, этот подход не принимает во внимание тот трудно ощутимый
элемент, которому каждый из нас дает свое название, в соответствии
со своими культурными, национальными и религиозными истоками. Его
можно назвать дух, душа, разум или духовное начало. Я выбрал термин
жизнь - свойство, присущее всему, что движется, растет, страдает,
размножается и умирает, свойство, которое невозможно анализировать
и измерять в физических, химических и математических терминах, но
которое, тем не менее, существует.
Чистый ученый может возразить по этому поводу: "Я не верю в
ваше свойство, которое не может быть проанализировано, именно потому,
что оно не может быть проанализировано. Я не верю в то, что нельзя
ни потрогать, ни увидеть". Как на это ответить? Если использовать
тот же самый язык, то мы может возразить так: "В течение миллионов
лет люди жили, не трогая и не видя радиоволны, космические волны,
инфракрасный свет, ультрафиолетовый свет… но все это, тем не менее,
существовало".
При постоянном использовании аналитического метода применительно
к биологическим и естественным наукам происходило игнорирование
элемента под названием Жизнь, а результате, медицинская наука оказалась
в тупике, и чтобы выбраться из него, "будущим поколениям потребуется
максимум времени и сил" (Лепин, 1967). Но сквозь несколько
щелей начинает проникать свет - и отверстия эти расширяются шире,
чем можно было бы предположить.
Данный процесс неоокультуривания в большой мере происходит, благодаря
все более частым и легким контактам с восточными учеными, мистиками,
философами и поэтами. Отсюда не следует, что Запад должен перенять
восточный образ мышления и жизни, но это значит, что западный образ
жизни, мышления и обучения (то есть, постижения науки) - не единственно
возможный; он небезупречен и не дает ответа на загадки Вселенной.
Многие люди, которые пусть даже не изучали науки (или, наоборот,
по этой причине) почувствовали данную правду интуитивно. Свидетельство
тому - растущее количество индивидуумов разного социального положения
и вероисповедания, которые движутся не в тех направлениях, которые
избирает большинство, а мужественно выбирают свой новый образ жизни.
Давайте вернемся к виисекционистским опытам на человеке. Как уже
говорилось, внутривидовое экспериментированием часто оказывается
столь же обманчивым, как и межвидовое, особенно когда речь идет
об экспериментах на людях.
Опыты на человеке широко практиковались в нацистских концентрационных
лагерях. Ниже мы приведем типичный пример. Дело было в бараках для
сосланных евреев. Врач давал им 24 часа на принятие решение, согласятся
ли они на добровольное участие в эксперименте. На следующий день
многие "добровольцы" являлись на службу. Из них выбирали
10 человек, мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Их переводили в чистые,
удобные помещения с хорошими кроватями и приличными туалетами. Им
давали качественную пищу в большом количестве. Но пленники также
знали, что им предстояло в конце этой хорошей дороги, и неизбежный
день эксперимента наступил.
Предмет эксперимента? "Сколько часов человеческое тело может
выносить погружение в воду с температурой 10-12 градусов по Цельсию".
В такой ситуации оказались пилоты Luftwaffe, когда им пришлось прыгать
с парашютом в Северное море, и сколько часов с того момента было
у немецких военно-воздушных и военно-морских сил на их спасение?
Эксперимент проводился в бассейне. Продолжительность агонии измеряли
с помощью секундомера.
Это был только один из экспериментов на пленниках. Нюрнбергские
архивы содержат записи о многих других варварствах, совершаемых
в экспериментальных целях, но дня нашего тезиса достаточно и одного.
Мы привели его не для того, чтобы критиковать по этическим позициям
факты, которые попросту не могут обсуждаться с такой точки
зрения, а чтобы объективно оценить научную обоснованность
эксперимента.
По сути в научном плане этот эксперимент не имеет смысла. Врачи,
выполнявшие его, знали: использовать животных было бы нецелесообразно,
а "клинический" метод показал, что их подход стоил указаний,
которые они получили в блестящих немецких университетах. Они, так
же, как и их университеты, ошибались, серьезно ошибались. Их ошибку
объясняет следующее утверждение: "Во многих случаях люди не
являются подходящей экспериментальной моделью для людей". Почему?
Потому что в момент, когда человек перестает быть индивидуумом и
становится экспериментальной моделью единство тела и души, сомы
и психики, материи и жизни разрушается. В результате, у исследователя
нет ничего, кроме куска пустой материи, которая имеет мало сходства
с материей, еще не так давно вмещавшей жизнь и выступавшей в роли
ее двигателя.
Давайте попробуем ответить на следующий вопрос: а можно ли сравнивать
жертв той трагедии, оторванных от семей, перевозившихся в вагоне
для скота, голодавших в хлеву, а на последних, самых страшных этапах,
откармливаемых, подобно свиньям перед забоем, с молодыми пилотами
в прекрасном физическом и психическом состоянии, с отработанными
до совершенства навыками, в возбуждении после боя, решительно настроенных
выжить и знающих, что товарищи постараются спасти их? Можно ли сравнивать
подопытного кролика в виде еврея и героя-пилота, и могут ли быть
какие-то сомнения относительно того, что из них дольше проживет
в холодной воде? Тут напрашивается ответ: "Разумеется, подопытный
кролик в виде еврея умрет первым, это совершенно очевидно".
Но на самом деле это не так. Рассмотрение этого вопроса с другой
позиции дает противоположный ответ. Давайте рассмотрим вновь физическое
и психологическое состояние двух субъектов, на сей раз с иного ракурса.
1. Жертва-еврей ("экспериментальная модель"), лишенная
всякой надежды, сдается и готовится к грядущему освобождению в виде
смерти. Это состояние интроверсии и смирения подавляет жизненные
силы, ослабляет мышечный тонус и снижает выработку гормонов реакций
(адреналина, стероидных гормонов). Метаболизм замедляется, ткани
вырабатывают меньше тепла, меньше тепла теряется в воде, поэтому
смерть от гипертермии наступает позднее.
2. В противоположность вышеописанной ситуации, пилот мобилизует
всю физическую и психическую энергию, поддерживает активность и
состояние боевой готовности; происходит повышенная выработка гормонов
реакций, тонус мышц усиливается и тепло вырабатывается более активно.
Больше тепла теряется в воде - и замерзание наступает быстро.
Здесь есть парадокс: обе гипотезы правомерны с научной точки зрения,
хотя они противоположны. Гипотеза со знаком плюс отменяет ту, которая
со знаком минус. Среднее арифметическое равно нулю. Эксперимент,
который не научил ничему, ничего не значил.
И действительно, история недавних времен показывает, что ни один
из тех экспериментов, которые проводились в нацистских концентрационных
лагерях, не представлял ценности для медицинской науки. Хотя подобные
эксперименты были внутривидовыми - идеал сегодняшних ученых, стремящихся
делать их сегодня, спустя более 50 лет, тем самым не только нарушая
моральные принципы, но и действуя вразрез со всякой научной логикой.
Давайте переместимся на 40 лет и на расстояние в более 1000 километров
- из Аушвица в Павию. Здесь атмосфера приятная и расслабленная.
На травяных берегах реки Тичино спортивные клубы занимаются физическим
и душевным укреплением молодых людей. Но не всех молодых людей.
"Corriere Medico", 10-12 ноября 1980: "Подопытные
люди внесены в список за 50 тысяч лир в день". Это имело место
в Клинике промышленной медицине в университете, но журналист (Луча
Чиферри - Luca Ciferri) утверждает, что то же самое происходит и
в других итальянских городах. Молодые люди проходят через добровольные
эксперименты, в которых проверяется скорость абсорбирования определенных
лекарств. Об остальном газета сообщает в успокаивающей манере, и
на той же странице напечатана реклама с изображением бутылки, а
на бутылке красуется крупная надпись: "Solution - вот ответ
при печеночной недостаточности, болях в желудке, отсутствии менструаций
и т.д.". Иными словами, эта газета своим доходом в значительной
мере обязана фармацевтической индустрии. У подопытного кролика -
студента технической специальности - берут интервью. Статья начинается
со слов: "Одним холодных осенним утром… я вошел в Клинику промышленной
медицины в Павии. Это должно было стать началом моего опыта в роли
официально одобренного подопытного кролика". Давайте запомним
последний момент - "официально одобренного".
Студент рад, что пошел на это дело, и говорит слова одобрения в
адрес руководителя клинических исследований в Лепети, доктора Джузеппе
Бунива (Giuseppe Buniva), который "всегда был очень честен
и открыт со мной, отвечая на мои вопросы о возможных опасностях",
и т.д. В целом ситуация кажется идиллической: все в порядке, все,
в том числе и подопытный кролик довольны. Потом он отвечает: "Вы
хотите точный перечень лекарств, которые я испытывал в ходе экспериментов?
Гипотензивный препарат, хлорамфеникол и рифампицин".
И тут звучит тревожный звонок: хлорамфеникол и рифампицин? Вот список
подобных эффектов хлорамфеникола из книги "Bittere Pillen"1
(Langbein et al 1983):
Отрицательные побочные эффекты
В кремах для кожи: серьезные аллергические реакции
В глазных каплях: серьезные реакции крови, аллергические реакции
При всяком использовании: серьезные реакции крови, реакции почек
Предупреждение: на протяжении жизни взрослого человека следует принимать
всего не более 30 граммов хлорамфеникола, а один курс лечения не
должен превышать 14 дней из-за возможного повреждения почек вследствие
такого лечения.
Статья под названием "Ятрогенные болезни" (болезни, вызванные
врачом или медикаментом) также рассказывает нам о том, что хлорамфеникол
может при длительном использовании вызвать воспаление зрительного
нерва, ухудшение слуха и аплазию (аномалию) костного мозга (D'Arcy
и Griffin, 1979). Не достаточно ли для одного лекарства? А теперь
давайте обратимся к рифампицину, о котором "Bittere Pillen"
рассказывает нам следующее: "Побочные эффекты - серьезные реакции
печени, нарушения желудочно-кишечного тракта, сильные головные боли".
А статья "Ятрогенные болезни" добавляет: "Ухудшение
зрения, дальтонизм".
Но сейчас нас в меньшей степени интересует жертва, которая, несмотря
на добровольное участие и хорошую информированность о возможных
рисках, все же не способна судить о реальности, могущей иметь трагический
конец. Прежде всего нас интересует то, что этот человек называет
себя "официально одобренным подопытным кроликом". Какой
закон его одобрил? Существует ли в Италии закон, разрешающий эксперименты
на здоровых людях, которые в результате могут превратиться в больных
или умереть? А если какая-то из этих возможностей реализуется, то
кто будет отвечать? Достаточно ли куска бумаги, подписанного "подопытным
кроликом", чтобы освободить исследователя от правовой ответственности?
А если испытуемый умрет, будет ли это убийством? Мы оставим эти
вопросы юристам. Давайте ограничимся замечанием, что вышеописанные
случаи идут вразрез с клятвой Гиппократа.
Немецкий журналист Гюнтер Вальраф (Gunter Wallraff) описал то, что
происходит в Германии (1985). Он хотел собрать досье на широкомасштабную
эксплуатацию турецких иммигрантов, работавших в ФРГ. С этой целью
он изменил свою внешность под турка, покрасил волосы в черный цвет,
надел на свои голубые глаза коричневые контактные линзы, достал
турецкие документы, удостоверяющие личность и научился говорить
по-немецки с турецким акцентом. Это дало ему возможность раскрыть
не только те факты, которые он ожидал, но и другие, весьма удивительные.
Турки, доведенные чуть ли не до самоубийства жестоким обращением
со стороны некоторых индустрий, нашли менее трудную, но более опасную
для жизни работу в определенных фармацевтических компаниях. В качестве
носильщиков? В качестве уборщиков? Нет - в качестве подопытных кроликов
при испытании лекарств. Граффити на стене в Дуйсбурге требовало:
"Прекратите эксперименты на животных - используйте турков!"
Наш псевдотурок решил в буквальном смысле внять этому призыву и
под именем Левантин Али Синирлиоглу он появился в LAB (Новый Ульм),
компании, которая уже набрала 2800 "сотрудников", то есть,
подопытных кроликов в виде людей разных национальностей, но прежде
всего турков, индонезийцев, латиноамериканцев и пакистанцев. Он
подписал согласие и получил первую дозу фенобарбитала в сочетании
с фенитоином.
В информации о товаре феноитине при получении в больших дозах и
на протяжении длительного периода времени говорится следующее: "Имеется
риск расстройств движения, гиперплазии, кровотечения десен, гипергликемии,
гиперлипидемии, мегалобластической анемии, порфирии и некроза печени".
Сочетание фенитоина с фенобарбиталом особенно опасно, при нем возникает
угроза асфиксии и шока кровообращения, иногда пациент умирает.
Наш поддельный турок принял первую дозу, и у него сразу же начались
нарушения зрения, а на другой день к ним добавились глухота, головные
боли, потеря чувствительности, кровотечение десен. Все другие участники
эксперимента, получавшие тот же самый препарат, жаловались на такие
же симптомы. Он решил отказаться от участия. Но у него была возможность
сделать это - ему не настолько требовались деньги. Однако остальные
участники были вынуждены продолжать, хотя знали, что за 11 недель
испытаний симптомы значительно усилятся. Также они знали, что в
случае отказа не получат обещанных 2000 дойчмарок. Поэтому, несмотря
на страшные муки, они продолжали, чтобы не терять денег. Контракт
это петля, которая затягивается на шее у всякого попадающего в нее.
Гюнтер Вальраф, то есть, Али Синирлиоглу , поправился и смог исчезнуть.
Но сколько других людей умерло спустя месяцы или годы хронического
отравления, когда никто не обращал на них внимания, а возможно,
их принимали за наркоманов или алкоголиков и поэтому относились
к ним с презрением. Сколько людей оставались больными на протяжении
всей оставшейся жизни?
Кто-то может цинично отметить: "Но разве эти эксперименты не
служили полезным целям?" Норберт Рильброк (Norbert Rielbrock)
отвечает: "Примерно две трети таких испытаний совершенно бесполезны.
Эти эксперименты производятся только по коммерческим соображениям".
Гюнтер Вальраф совершил еще одну попытку с другой компанией, "Био-дизайн"
(Bio-Design), в г. Фрейбурге, там предлагалось 2500 дойчмарок за
15 дней. Предстояла проверка масперинона, антагониста альдостерона
с диуретическим действием. Его отрицательные побочные эффекты (как
указано в "Bittere Pillen"): гормональные нарушения, импотенция,
необратимое развитие молочных желез у мужчин, изменение голоса,
потеря сил, электролитический дисбаланс, также головные боли, спутанность
сознания, гастралгия и изменения кожи. В контракте, который должны
были подписать участники эксперимента, говорилось следующее: "В
случае отказа Bio-Design может потребовать от добровольца возмещения
расходов, понесенных в ходе испытаний". На сей раз Гюнтер Вальраф
отказался еще до начала исследований, потому что не хотел платить
за гостеприимство со стороны Bio-Design.
Вышеописанные факты, которые имели место и в Университете Павии,
и в Германии с подопытными кроликами в виде турок, показывают нам,
что под видом научных исследований любое преступление может оставаться
безнаказанным. Что же тогда защищает ученого от преследований со
стороны общественности и позора? И опять мы неизбежно возвращаемся
к заявлению: "Работа ведется во благо человечества" или
к циничному "Пожертвовать несколькими означает принести пользу
всем" или же к извращенному "Цель оправдывает средства".
Таким образом, цель всегда очень благородна, а средства необходимы,
при условии, что они используются для столь важных целей.
И каков же наш окончательный вердикт по вивисекции? С точки зрения
этики вивисекцию человека более не восхваляют даже самые убежденные
и непредвзятые сторонники экспериментов. С точки зрения науки при
проведении на человеке она столь же обманчива, как и в случае с
животными. Единственно возможный вывод - именно так его надо преподносить
законодателям - выглядит следующим образом: необходимо срочно принять
законы, которые бы сделали вивисекционистское экспериментирование
преступлением против безопасности и жизни человека и создали условия
для адекватной компенсации пострадавшим от нее.
Эксперименты, проводившиеся на студентах-добровольцах и Павии и
на турках в Германии, - это всего лишь вершина гигантского айсберга
в море дезинформации, куда людей обманным путем погружают. И что
с невидимой частью айсберга - огромном количестве испытаний, о которых
мы не знаем ничего? Они происходят каждый день у нас под носом в
больницах и прежде всего в клиниках при вузах. Такая деятельность
находится на границе между настоящей вивисекцией и клиническими
испытаниями, при этом бывает удобно пользоваться человеческим "материалом",
который всегда доступен в больницах, и превращать доверчивых, ничего
не подозревающих людей в подопытных кроликов. Речь тут идет прежде
всего об испытании лекарств, но имеет место и недобросовестное использование
диагностических методов, часто потому что врачи, возможно - недавние
выпускники университетов - хотят испробовать на практике разные
процедуры: бессмысленную гастроскопию или эзофагоскопию, порой излишнюю
бронхоскопию, так как диагноз уже поставлен иными способами, нисходящую
либо восходящую урографию, первая представляет опасность из-за возможной
непереносимости радиологической контрастной среды, а вторая может
перенести в почечную лоханку или в саму почку инфекции, которая
в противном случае ограничивается нижними мочевыми путями, и т.д.
Даже опытные врачи, консультанты или профессора - "авторитетные
фигуры" - часто чувствуют нужду показать своим администраторам,
что какая-то сложная и очень дорогая аппаратура, которую они называют
незаменимой, но которая на самом деле излишня, активно используется
(и не имеет значения, уместно или нет); таким образом, они оправдывают
покупку.
Но самыми распространенными экспериментами является все же испытания
лекарств, нацеленные прежде всего на определение токсичности новых
препаратов. Такие опыты берут начало от необходимости установить
стандарты, то есть, от законов, которые выдвигают данный вид тестирования
на людях ("клинические испытания") непреложным условием
для лицензирования лекарств, косметики и любых потенциально опасных
субстанций, могущих соприкасаться с человеком. Опять же, это демонстрирует,
что мы имеем дело с проблемами коммерческого характера, и их решение
требует политического вмешательства.
Клинические испытания
Клинические испытания обязательны, от них уйти невозможно. Как бы
парадоксально то ни звучало, но можно сказать, что если бы их не
делали, то они все равно бы в конце концов имели место. Что это
значит? Это значит, что если бы испытания не проводились систематически,
если бы их не делали тщательно спланированным образом в заведениях,
специально оснащенных для этой цели, если бы новое лекарство поступало
в продажу без предварительной проверки в больнице, то первыми невольными
субъектами эксперимента оказались бы первые люди, принимающие их,
и последствия были бы всевозможные, в том числе и катастрофические.
Таким образом, новое лекарство или метод диагностики следует сначала
испробовать на человеке. И какова же проблема? Она заключается как
раз в выборе людей. Давайте проанализируем проблемы, которыми следует
руководствоваться при отборе.
Испытания на здоровых добровольцах. Данный метод неприемлем как
по техническим, так и по этическим соображениям.
Основное техническое возражение заключается в том, что лекарства
обычно дают больным людям, добровольцы же здоровы. Необязательно
быть специалистом, чтобы понять, что больной организм отличается
от здорового организма. Даже самая простая болезнь меняет многие
(если не все) биохимические параметры как измеримым, так и неизмеримым
образом. В результате у больного человека большинство реакций кардинальным
образом отличается от происходящего в организме здорового человека.
Они могут дать подсказку, но, как уже говорилось (см. главу 1),
такая информация слишком смутна, чтобы считаться действительной
с точки зрения науки, особенно когда неопределенная идея на практике
может превратиться в реальную опасность.
Этическое возражение заключается в следующем. Испытания проводятся
на добровольцах, то есть, на людях, которые принимают ответственность
за происходящее с ними. Но что это за добровольцы? Возможно, им
платят деньги, и здесь присутствует явное противоречие в терминах.
Людям не позволительно идти на такой риск, даже если нужда заставляет
их продавать свое тело и становиться "пациентами". Понятие
нужды может охватывать ситуации, начиная от самых тяжелых форм нищеты
и кончая желанием купить скутер. Поэтому решение об участии по собственному
желанию следует принимать не добровольцам; вопрос о том, правомерно
ли с этической точки зрения подвергать здоровье других опасности,
должен решаться исследователями. Когда они могут быть уверены, что
действуют в рамках допустимого? "Никогда", - вот простой
и полный ответ даже применительно к той категории добровольцев,
которая "готова принести себя в жертву ради Науки". Человеческое
общество имеет в своей основе определенные нормы и правила, принимаемые
большинством, а подобный жертвенный мотив явно идет вразрез с такими
нормами, следовательно, это девиантное поведение может быть признаком
психической нестабильности. Последнее сводит к нулю идею "добровольного"
участия.
Исследователи заверяют нас: "Когда мы привлекаем добровольцев,
то объясняем им точно и объективно цель испытаний, то, как они будут
проводиться, способы контроля, опасности [всегда "незначительные"],
которые им могут угрожать - в гипотетическом случае". Но реальность
обнадеживает гораздо меньше. Обычно сделку между потенциальным подопытным
кроликом и теми, кто заинтересован в результате испытаний, поручают
"скрытым мастерам уговоров", представителям фармацевтической
промышленности. Они знают, как добиться доверия и симпатии людей,
с которыми имеют дело с целью убедить, что их выбор исключительно
доброволен, что никто никогда не будет пытаться принуждать их, и
что они, "мастера уговоров", являются их друзьями и советниками,
а потому скорее склонны отговаривать их, нежели убеждать.
Но какие убеждения могут сформироваться в мозгу непрофессионала
(например, у студента-технаря, которого мы цитировали выше), слушающего
разговоры о трансаминазе, щелочной фосфатазе, гемолитической функции
- рассуждения, понятные уговаривающему, в то время как на жертву
они оказывают только гипнотизирующий эффект обещания, подобно прорицанию
Дельфийского оракула?
Вымогательство и убеждение посредством обмана. Вымогательство
может производиться разными путями, от жестокости в виде предложения
двух альтернатив - обе они страшны, но одна кажется менее неизбежной
и обеспечивающей некоторую надежду - до лицемерия со стороны шантажиста,
который, с улыбкой друга и покровителя, стремится убедить, заявляя:
"Это ради Вашего же блага!"
Иной, но столь же предосудительный подход имеет место в некоторых
тюрьмах США, где распространенной практикой среди заключенных является
подвергание своего здоровья опасности в обмен на сокращение срока.
В данном случае смешиваются стремление к выгодной покупке и истинная
свобода выбора.
Столь же отвратителен обман пациента, страдающего от конкретной
болезни, когда его убеждают согласиться на терапию или диагностику,
считающуюся полезной при другом заболевании. Это делается, чтобы
пробудить у жертвы иллюзорную надежду на возможный положительный
побочный эффект. Например, человеку, страдающему онкологическим
заболеванием, предлагают противоревматическое лечение со словами:
"Никогда нельзя знать" или "Было отмечено, что…"
или с какими-то другими смутными и невнятными намеками; их, однако,
достаточно, чтобы использовать несчастного страдальца, которому
требуется очень мало убеждений для разрушения его хрупкой психологической
защиты ради призрачной надежды.
Гомологичные испытания. Клинические испытания правомерны технически
и допустимы с точки зрения этики. Они связаны с пациентом, так как
в их ходе подразумевается, что исследование делают во благо конкретного
пациента, а не ради других или всего сообщества; и они гомологичные
к болезни, то есть, относятся к болезни, ради которой проводятся
испытания, и только к ней. Для гомологичных исследований существуют
строгие правила:
1. Участник испытаний должен страдать болезнью. Поэтому участие
добровольцев исключено в случае, если они здоровы или имеют другую
болезнь.
2. Лекарство или диагностическая процедура должны обладать свойствами,
которые считаются достаточно подходящими для благотворного действия
при этой конкретной болезни.
3. Пациент должен дать согласие. Если он неспособен дать осознанное
согласие, то нужно, чтобы кто-то другой, способный дать его только
в интересах пациента, взял на себя эту ответственность.
4. Лечение или диагностическая процедура должны применяться только
тогда, когда нет никаких других методов, которые могли бы принести
пользу больному.
Как мы видим, центром внимания всех врачебных мероприятий является
пациент: все должно быть направлено на принесение ему пользы. Идея
подразумевает, что никакие испытания не должны проводиться в форме
жертвоприношения одного ради блага множества - нарушение это причинило
неимоверный ущерб и страдания тем многим, кто составляет все человечество,
жертву нежеланных "благодетелей" на протяжении тысяч лет.
Выводы
Нижеследующие выводы касаются настоящей главы, но они также в целом
резюмируют антививисекционистское мышление, о котором мы говорим
в этой книге.
1. Опыты на животных вводят в заблуждение и потому представляют
опасность для человеческой медицины.
2. Опыты на людях имеют ярко выраженные технические и этические
ограничения.
Ученый, который привык мыслить исключительно на основе экспериментирования,
возразит: "Но какие методы нам останутся, на чем основывать
развитие медицины?" Ответ состоит в том, что нет такой сферы
науки, где прогресс был бы связан исключительно с экспериментальным
методом, а к медицинскому прогрессу это относится еще в большей
мере. Во всех науках экспериментирование идет бок о бок с наблюдениями
за природными явлениями. А для медицины это особенно верно. На самом
деле можно сказать, что наука медицина примерно на две трети основана
на наблюдениях и на треть на экспериментальной науке. Но, к сожалению,
экспериментальная часть с самого начала оказалась жертвой крупной
методологической ошибки, то есть, вивисекции.
Итак, вивисекция является глобальной ошибкой, и с ней надо покончить.
Когда будущие ученые освободятся от нее, то смогут базировать медицинские
исследования на подлинной научной основе (что мы увидим в части
2 нашей книги). Это потребует полного, сложного и болезненного пересмотра
всех концепций, которым их учили, и которые приносили ущерб как
людям, так и медицинской науке. Будущие исследователи должны вернуть
медицине научную целостность, утраченную из-за вивисекционистских
нарушений.
Примечания
1. Bittere Pillen ("Горькие таблетки"): на 864 страницах
этой книги приводится около 2300 медикаментов и для каждого из
них побочные эффекты (то есть, токсические эффекты). Более того,
для каждого лекарства книга дает отдельные "рекомендации",
например "(1) терапевтически эффективно, (2) эффективно только
в некоторых случаях, (3) не очень эффективно, (4) не следует рекомендовать.
Лекарств, которые "не следует рекомендовать", насчитывается
846, то есть, 32,4%, а тех, которые характеризуются как "не
очень эффективные" - 223, то есть, 12% от указанных.
2. Норберт Рильброк, профессор Университета Франкфурта на Майне,
в телепрограмме "Второго германского телевидения" (ZDF)
28 августа 1985.
II. Научные
методы биомедицинских исследований
Введение
Давайте назовем их научными методами, а
не альтернативными. Слово "альтернативные" подразумевает
идею выбора: использовать ли мне вивисекцию или иной метод для данного
исследования? Так бы рассуждал ученый, если бы вивисекция была одним
из научных методов.
Каковы же научные методы и сколько их? Этот вопрос, который задают
очень часто, не имеет основы. Каждое исследование (или рабочая гипотеза)
требует определения наиболее подходящего метода для данного конкретного
исследования. Квалификация ученого состоит не столько в создании
новых гипотез, сколько в умении найти всякий раз лучший метод, чтобы
продемонстрировать ее либо признать ее несостоятельность.
Медицинская наука зародилась в то же самое время, что и философия
в западном мире, во времена Фалеса (5 в. до н.э.) в Греции. Вместе
с тем, она следовала двумя несовместимыми путями: один из них заключался
в наблюдениях за человечеством, а другой - в попытке использовать
животных как модель человека. Второй метод взял верх над первым
и ввел его в заблуждение. Его влияние стало мощным, потому что оно
дает иллюзию срезания пути к клиническим и анатомо-патологическим
наблюдениям.
13.
Эпидемиологический метод
Патология это изучение болезней индивидуумов.
Эпидемиология это изучение болезней целых популяций. Следовательно,
эпидемиология представляет собой расширение патологии с индивидуума
до множества людей, с мелкомасштабных до крупномасштабных наблюдений.
Но рассматривать ее как простой сбор данных и наблюдений было бы
неправильно. При должном использовании она может быть ценным инструментом
экспериментальной науки.
Экспериментальная наука постулирует, что явление можно повторять
неопределенное количество раз посредством использования "моделей".
Когда Галилео бросал свинцовую массу с наклонной башни в Пизе и
установил, что она все время падала на землю в одном и том же месте,
чуть восточнее от перпендикулярной линии, то показал не только факт
вращения Земли, но и возможность получения одного им того же результата
бесчисленное количество раз.
Успехи экспериментальной науки в случае с неодушевленными объектами
(физика и механика) заставили предположить, что и в медико-биологических
исследованиях через использование "живых" экспериментальных
моделей можно получать один и тот же результат неограниченное число
раз. Поскольку среди всех живых существ основным объектом интереса
был человек, производился поиск экспериментальной модели. Но поскольку
этот поиск происходил, возможно, несколько поспешно, в ходе него
наступили на опасную и непредсказуемую банановую кожуру, коей оказалась
иллюзия использования животного в качестве модели, и таким образом
в биологию вошел механистический подход, превалирующий в изучении
неодушевленных объектов.
По мнению тех, кто мыслит не только механическими категориями, само
использование общего термина "животное" представляет собой
довольно грубую концептуальную ошибку. На самом деле, слово "животное"
есть собирательный термин, который относится ко всем видам животных
и выражает абстракцию. Непонимание заключается в том, что в этой
чистой абстракции видят конкретную экспериментальную модель - то
есть, объект или комплекс объектов, которые можно трогать, изменять,
изменять, разбирать на части, вновь собирать и разрушать, которыми
можно манипулировать.
Видение биологии в таком механистическом свете с самого начала привело
к ряду искажений, потому что оно не принимало во внимание Жизнь,
реальный, хоть и непостижимый элемент, который пронизывает все существа,
способные на автономное развитие и размножение. Но биологи Века
просвещения освободились от этого неудобного элемента, придумав
один из самых страшных обманов в истории человеческой мысли. "Если
реальность под названием Жизнь доставляет нам неудобства, давайте
избавимся от нее" - таков был их аргумент. "Достаточно
заявить, что "звери" не обладают основными характеристиками
жизни - возможностью думать, наблюдать, выражать свои чувства, любить,
ненавидеть или страдать - и они тут же превратятся в механические
модели, которыми мы при желании можем манипулировать. Что до возможности
двигаться, принимать пищу, размножаться - мы можем объяснить их
как комплексный механизм нервных рефлексов и унаследованных импульсов,
которые мы объединим под названием "инстинкт". Таким образом,
животные (за исключением, разумеется, человека) станут моделями,
столь же полезными, как и зубчатое колесо, проволока, шкив, перегонный
куб". Сегодня люди начинают признавать ошибки подобного мышления
- тягостного наследия антропоцентрического века просвещения.
Теперь возникает вопрос: если ты откажемся от миража экспериментальных
моделей, то как будем изучать человека? Ответ: через наблюдение
человека. Один из самых естественных и непосредственных методов
состоит в наблюдении за явлениями, которые спонтанно происходят
у как можно большего количества человеческих "моделей"
во всем мире. Концепция эпидемиологии включает в себя этот вид наблюдений
и дает возможность увеличивать количество индивидуальных наблюдений
в масштабе, достаточном для выводов, которые аналогичны тому, что
в механических и естественных науках имеет название "законы".
В эпидемиологической методологии увеличение количества наблюдений
за спонтанно происходящим заменяет ту возможность по желанию повторять,
которая имеется в механических и естественных науках и реализуется
посредством экспериментальных моделей. Основное различие состоит
в том факте, что модели, используемые в науках о "неодушевленных
телах", можно изучать за закрытыми дверями, в удобных лабораториях,
а факты, которые могут стать доступными в результате эпидемиологических
исследований, раскиданы по территории площадью в 149107000 квадратных
километров - то есть, по территории земли выше уровня моря. Это
дает идею о сложности средств, которые необходимы для использования
громадного потенциала эпидемиологического метода, требующего серьезных
организационных усилий во всем мире, новых технических средств и
прежде всего нового образа мышления. Последний может выработаться
только тогда, когда будет признана ошибочность сегодняшних методов.
Эпидемиология1 развилась из спонтанных наблюдений. Первобытные
люди избегали болот, "вызывавших лихорадку", а мореплаватели
и купцы древности знали, что в определенных странах они могут получить
заболевания, неизвестные у них на родине. В Риме закон, требующий
карантина для тех, кто возвращался из Африки и с Востока, подразумевал
идею эпидемиологической карты инфекций и заразных болезней за много
веков до открытия бактерий.
Примером эпидемиологических исследований в добактериальную эпоху
служит работа доктора Джона Сноу (John Snow)2, который
в 1848 году посредством использования лондонской карты, показывающей
распространение холеры, указал на зараженный водопровод как ее источник.
В начале бактериологической эры эпидемиологическое исследование
было проведено Робертом Кохом (Robert Koch), который в 1883 году
в Египте и немного позже в Индии открыл Vibrio comma, бациллу
холеры. Еще одним примером эпидемиологических наблюдений, не включающих
в себя бактериологию, было установление того факта, что у европейцев,
живущих в тропиках, чаще встречается рак кожи, и связывание болезни
с избытком ультрафиолетового излучения (а темную кожу защищает пигмент
меланин).
Что касается исследований сердца, результаты фундаментальной важности
были получены в 1960-е годы в ходе эпидемиологического исследования,
которое проводилось в городе Фрамингеме, штат Массачусетс, США.
Пять тысяч добровольцев согласились пройти ряд клинических и лабораторных
обследований и ответить на анкету об их образе жизни в целом, привычками,
связанными с питанием, о курении, ежедневной физической нагрузке
и так далее. Исследование повторяли одинаковым образом каждые два
года, и в 1969 году были сделаны следующие выводы: наиболее высока
угроза сердечно-сосудистых заболеваний у курильщиков, у тех, кто
потребляет с пищей слишком много животного жира, у тех, кто имеет
недостаточную физическую нагрузку, у тех, чей вес и кровяное давление
выше нормы.
Сегодня эти факторы риска настолько хорошо известны, что повторять
их кажется излишним. Вместе с тем, во время проведения исследования
работники лабораторий расточительно тратили время и деньги, пытаясь
воспроизвести болезни сердца у животных, но упускали из вида простой
факт, заключающийся в том, что сами люди и их привычки обеспечивали
надежную экспериментальную модель: им только требовалось это признать
и заняться именно такой работой. Но об отсутствии желания заниматься
такими исследованиями свидетельствует тот факт, что даже сегодня
целые армии сотрудников лабораторий, как и их предшественники, настаивают
на проведении абсурдных экспериментов с животными.
Почему? Потому что эпидемиология - неудобный метод исследования,
требующий упорства и целеустремленности, и он не годится для производства
множества "научных" публикаций, с помощью которых исследователи
делают карьеру и деньги. Эпидемиология, наука, основанная на наблюдениях
за людьми и спонтанными явлениями, которые поражают их, могла бы
иметь ключевую роль в исследовании рака, некоторых приобретенных
нарушений метаболизма, дегенеративных заболеваний - всех современных
"тайн" медицины. Тем не менее, эпидемиологический метод
используют мало и неправильно. Конечно, стоимость правильной организации
высока, но она бы быстро окупилась, если бы деньги не уходили на
бессмысленные исследования в лабораториях, университетах и фармацевтических
компаниях, которые, кажется, больше заинтересованы в создании новых
болезней, а не в победе над имеющимися.
Сегодня некоторые люди полагают, что эпидемиология заключается в
сборе информации, которая доступна в институтах здравоохранения
разных стран. Такой метод не требует больших затрат, но он уходит
от ответственности и не дает даже приблизительной картины реальности.
На самом деле, наиболее интересные факты, особенно связанные с определенными
болезнями, такими как сердечно-сосудистые и онкологические, можно
было бы получить в неразвитых странах, в районах, где население
соприкасается с промышленным загрязнением и ненатуральной пищей
минимальным образом. Однако подобные страны не имеют ни возможности,
ни желания предоставить точную информацию; а те данные, которые
обеспечивают миссии и больницы под западным руководством, бывают
неполными, либо же относятся лишь к определенному району и, следовательно,
вводят в заблуждение. Более того, многие правительства, вероятно,
из-за ложного чувства национального престижа, скрывают некоторые
правды. В Индии проказа считается печальным воспоминанием из прошлого,
вместе с тем, огромные пригороды Бомбея кишат изъязвленными тенями
людей.
Если эпидемиологический метод грамотно и широко использовать применительно
ко всем болезням, то можно получить очень значительные результаты.
В наибольшей степени это касается болезней, причины которых неизвестны
- их, возможно, никогда не удастся победить без данного метода.
Одним из таких заболеваний является рак.
Эпидемиология рака
Первая ступень в изучении болезни - это поиск ее причины (этиология).
Если причину обнаруживают, то необходимы следующие меры: надо выяснить,
каким образом болезнь ведет себя или действует (патогенез), и каким
образом ее действия можно избежать либо нейтрализовать его (профилактика
и терапия). Какими бы трудными ни были эти шаги, они все же означают
движение в нужном направлении.
В онкологических исследованиях внимание обращают прежде всего на
причину, и количество факторов, которые могут вызвать болезнь, поражает.
Однако поскольку ни один из этих факторов не вызывает рак у всех,
кто с ними соприкасается, то приходится сделать вывод, что они не
являются причиной, а просто благоприятствуют его возникновению.
Поскольку речь тут идет о приводящей в замешательство и все еще
не решенной проблеме, давайте возьмем рак в качестве примера того,
сколько уже удалось узнать о болезни в ходе очень плохо организованных
и малобюджетных эпидемиологических исследований, и насколько больше
можно было бы достичь в лучших условиях.
При чтении докладов об уже проведенных исследованиях, какими бы
фрагментарными и разрозненными они ни были, все время создается
чувство, что от нас ускользает что-то очень близкое к истине, что
многочисленные противоречия только кажутся таковыми, и что именно
в этих противоречиях можно найти ключ для раскрытия секрета болезни.
Большое количество субстанций и внешних факторов, которые, по-видимому,
способствуют раку, наводят на мысль, что причина имеется одна.
На самом деле, маловероятно, чтобы большое количество очень не сопоставимых
причин создавало один и тот же эффект. Было бы логичнее предположить,
что разные факторы могут "ослабить" весь организм или
одну из его частей и таким образом дать возможность чему-то, вызывающему
рак, укорениться, или же подавить действие чего-то другого, блокирующего
и разрушающего начинающийся рак.³
Эпидемиологические исследования рака направлены на выявления количественных
и качественных различий в том, какое географическое распределение
имеет болезнь. Происходит поиск ответов на следующие вопросы:
1. Если в одной популяции люди заболевают раком часто (или нечасто),
какие особенности их образа жизни вызывают это отклонение от средних
показателей?
2. Какие условия могут быть ответственны за более высокий или более
низкий уровень определенного вида рака?
3. Насколько важны внешние факторы, по сравнению с генетическими
или расовыми? (когда ученые сталкиваются с заметной разницей между
двумя или тремя странами, то они всегда должны уметь исключить различия
в методологии исследования и точности).
4. Действительно ли определенный вид рака редко встречается в данной
популяции, или его просто не исследовали адекватным образом?
5. Распространенность рака подсчитывают по результатам вскрытий
или на основе клинических наблюдений? Например, скрытый рак простаты
- который выявляют через биопсию либо вскрытие - довольно распространен.
Прибегают ли к биопсии простаты одинаково часто в Швеции и Японии,
где показатели рака простаты очень разные? А каков в этих странах
процент вскрытий по отношению к общему количеству смертей? Иными
словами, собирали ли статистику одинаковым способом?
Следует прояснить соответствующую роль расы и окружающей среды среди
факторов риска. Например, частота гепатомы (рака печени) у африканцев
высокая, но у афроамериканцев - средняя. Это ведет к предположению,
что первые могут соприкасаться с каким-то внешним фактором, а вторые
- нет, и раса тут никакого отношения не имеет. С другой стороны,
в случае с некоторыми опухолями расовые различия исключать нельзя.
Например, рак яичек у чернокожих людей во всем мире встречается
редко (Tulinius, 1970). Такую информацию мог обеспечить только эпидемиологический
метод, и в этой связи возникает следующий вопрос: а каким образом
люди черной расы оказываются защищены от рака яичек?
Географическое распределение рака в мире. Вот самые интересные
наблюдения, касающиеся территориального распределения рака.
• В Южной Африке рак губы у белого населения встречается в 50
раз чаще, чем у черного; во всем мире он чаще встречается у крестьян
и рыбаков, которые больше бывают на солнце. Таким образом, повышают
ли солнечные лучи опасность рака? А если да, то как и почему?
• Рак рта и пищевода часто встречается в Индии (Jussawalla, Deshpande,
1971) - очевидно, вследствие привычки жевать орехи Areca catechou,
листья тропического растения под названием бетель (Piper betle),
а также табак и известь (кальций) - и в Новой Гвинее, где жуют
табак. Есть ли связь между этими фактами и раком легким, возникающим
вследствие сигаретного дыма?
• Рак носа и горла часто встречается в Южном Китае и в монгольских
популяциях Индокитая, Индонезии, Малайзии и Филиппин, а также
в Северной и Восточной Африке (Clifford, 1970, Muir, 1971). Предполагается,
что причиной служит генетическая предрасположенность. Но не может
ли быть внешнего фактора, общего для упомянутых стран? И не могло
бы более точное статистическое исследование пролить свет на вопрос?
• Рак пищевода часто встречается в Центральной Азии, Северном
Иране и в Транскее. Правдоподобного объяснения такому географическому
распределению нет, но его могло бы дать более тщательное исследование.
• Рак желудка часто бывает в Латинской Америке и в Японии. В Европе
и США заболеваемость им снижается (Muoz, Connely, 1971).
• Рак толстой кишки и прямой кишки часто встречается в Европе
и Северной Америке. Он редко бывает в Японии, но одинаково распространен
среди японских иммигрантов в США и остальной части американского
населения, что наводит на мысль о внешнем факторе (Hill и другие,
1971).
• Рак печени распространен в Южной Америке и Юго-Восточной Азии.
В этих регионах пища часто бывает загрязнена плесневым грибком
Aspergillus flavus. Вызывает ли афлатоксин, вырабатываемый этим
грибком, рак печени? Если да, то как объяснить тот факт, что в
Индии, где заражение Aspergillus flavus повсеместно, рак печени
бывает редко? Ясно, что проблему не исследовали тщательным образом:
афлатоксин мог быть безопасным, а канцерогенный фактор - заключаться
в чем-то другом. Или же афлатоксин, вероятно, канцерогенен только
в сочетании с другим, неизвестным фактором, которого в Индии не
существует.
• Рак желчного пузыря часто встречается в одной из популяций американских
индейцев (в племени пана) на юго-востоке США и, возможно, связан
с распространенными желчными конкрементами (Rudolph и другие,
1970). Но в Европе и США заболеваемость раком желчного пузыря
имеет низкий уровень, невзирая на часто встречающиеся желчные
конкременты. Почему?
• Рак околоносовых пазух часто встречается в Японии и в Южной
Африке среди народности банту, которые курят табак, смешанный
с алоэ, где содержится высокий уровень никеля и хрома. Это соответствует
распространенности данного вида рака в США и Европе среди рабочих
индустрий, где используются те металлы (Acheson и другие, 1970).
Таким образом, хром и никель с очень большой вероятностью обладают
канцерогенными свойствами, и экспериментальным путем данную информацию
мы бы, возможно, никогда не получили.
• Рак легких распространен среди маори в Новой Зеландии, в Финляндии
и в Соединенном Королевстве. Его также часто обнаруживают у китаянок
в Гонконге (Segi и Kurihara, 1963), но у 30% из них болезнь имеет
весьма редкую в других группах форму аденокарциномы.
• Плевральная мезотелиома часто встречается у рабочих, имеющих
дело с асбестом, причем во всем мире (Wagner, 1971). Почему тогда
не заболевают все, кто соприкасается с асбестом?
• Рак груди часто встречается в Северной Америке и Европе, но
редко - в Китае, Японии и некоторых популяциях Африки. Редкость
рака груди у японок может быть связана с расовым фактором, и на
это указывает низкий его уровень среди японок, родившихся в США,
и даже у второго их поколения.
• Рак мочевого пузыря часто встречается в Коннектикуте (США).
В Новой Зеландии среди жителей европейского происхождения болезнь
распространена в 13 раз больше, чем среди маори. Какие привычки
коренного населения отличаются от привычек европейцев? Или дело
тут в расовых различиях? Эпидермоидный тип болезни часто встречается
в Африке, где он может быть связан с заражением Schistosoma haematobium,
но он также распространен в Англии, в районе Бирмингема, где этой
связи нет.
• Злокачественная меланома чаще всего в мире встречается в Квинсленде
(Австралия). Почему? Австралийцы - это иммигранты со всей Европы.
Есть ли тут тогда местный фактор, особенно способствующий образованию
этого вида рака? И почему в Квинсленде, а не во всей Австралии?
• Базально-клеточная эпителиома преобладает у белокожих популяций.
Рак кожи базального типа крайне редко встречается у темнокожих
рас.
• Рак шейки матки распространен в странах с низким уровнем жизни.
Кажется, этой болезни способствуют раннее начало половой жизни
и большое число партнеров. Отмечено, что опасность для женщин
возрастает в случае неверности их супругов. Возможно ли, что болезнь
передается половым путем?
• Рак матки, в отличие от рака шейки матки, больше распространен
в странах с высоким уровнем жизни.
• Рак простаты распространен в Норвегии, Швеции и Канаде (Doll
и другие, 1970), но редко встречается в Японии.
• Рак пениса распространен в Азии и Латинской Америке. Он редко
встречается среди евреев, и полагают, что обрезание является защитным
фактором, особенно если его делают в младенчестве.
• Рак почек распространен в Швеции и Новой Зеландии (Doll и другие,
1970). Предрасполагающим фактором может быть прием в больших количествах
анальгетиков, в которых содержится фенацетин (Angervall и другие,
1969).
• Саркома Капоши редко бывает в Европе и Северной Америке, но
распространена среди евреев из Восточной Европы. Откуда такое
бессистемное распределение?
• Опухоли центральной нервной системы в наибольшей степени распространены
в Израиле, но редко встречаются в Азии и Африке.
• Уровень рака щитовидной железы ниже всего в Израиле, а выше
всего на Гавайях и в Колумбии.
• В сельских районах Польши наблюдается высокий уровень злокачественных
лимфом. Они довольно часто встречаются у нееврейского населения
Израиля. Лимфома Беркитта распространена в Центральной и Восточной
Африке, Уганде, Новой Гвинее, Бразилии, Венесуэле и Колумбии.
Ее географическое распределение представляет собой пояс, охватывающий
крупные области тропиков. Это наводит на мысль, что данную болезнь
может передавать какое-то маленькое животное (насекомое или паукообразное),
живущее в тех широтах.
• Болезнь Ходжкина наиболее распространена в Колумбии (особенно
в городе Кали) и на Гавайях.
Географическое распространение по странам. Параллельным
аспектом изучения того, как онкологические заболевания распространены
по всему миру, является их распределение в рамках одной страны.
Особенно обращают на себя внимание различия между популяциями, которые
живут хоть и по соседству, но в разной окружающей обстановке. Самым
очевидным примером служит различие между городскими и сельскими
популяциями, которых могут отделять друг от друга всего лишь несколько
километров. Одно из наиболее очевидных внешних различий состоит
в загрязненной атмосфере городов, куда входит как минимум 10 ароматических
углеводородов, а среди них преобладает бенз-альфа-пирен, обнаруженный
и сигаретном дыме. В Норвегии за период 1964-1966 было выявлено,
что распространенность рака легких в городах более чем в 2 раза
превышает его частоту в сельских областях (Day и Muir, 1973).
• В штате Айова (США) распространенность рака в городах почти
в 3 раза больше, чем в сельской местности. Однако это не означает,
что единственным ответственным фактором является атмосферное загрязнение.
Значение могут иметь другие факторы, такие как разные привычки,
связанные с курением, и соприкосновение с асбестом. О том, насколько
опрометчиво было бы связывать причину с наиболее очевидным фактором,
свидетельствует следующий пример: в Копенгагене распространенность
рака яичек в городах вдвое больше, чем в сельских районах Дании
(Clemmesen, 1965). Было бы неразумно приписывать этот факт атмосферному
загрязнению, но такую вероятность нельзя исключать.
•Значительные и пока еще необъясненные различия имеются в том,
как распространен рак пищевода в ряде соседних районов Бретани
(Tuyns, 1971). Также есть различия между прибрежными районами
Кении (озеро Виктория) и соседствующими районами Танзании (Cook
и Burkitt, 1971).
•В Иране на побережье Каспийского моря в двух областях, расстояние
между которыми всего лишь 500 километров, показатели распространенности
рака пищевода варьируются шестикратно у мужчин и как минимум тридцатикратно
у женщин. Между этими двумя областями есть следующие экологические
различия: большое количество осадков и малая соленость почв в
районах с низкой заболеваемостью и малое количество осадков плюс
большая соленость почв в районах с высокой заболеваемостью.
Привычки. О важности привычек свидетельствует распространенность
рака в сообществах, где какой-либо расовый фактор исключен. Например:
• Среди членов религиозной секты "Адвентисты Седьмого дня",
воздерживающихся от курения и алкоголя, частота рака легких, рта,
гортани, пищевода, мочевого пузыря и шейки матки значительно ниже,
чем у остальной части населения США.
• У монахинь рак шейки матки встречается очень редко, а у проституток
- часто (Rotkin и Cameron, 1968).
• Рак пениса редко бывает в популяциях, которые практикуют обрезание
вскоре после рождения (евреи), чаще у тех, кто производит эту
операцию в десятилетнем возрасте (арабы) и еще чаще у людей с
фимозом (патологическое сужение отверстия крайней плоти). Считается,
что тут имеет место канцерогенный эффект смегмы (секрета слизистой
оболочки).
Род деятельности. Канцерогенные вещества можно выявить через
эпидемиологические исследования разных профессий. Например, канцерогенное
действие на мочевой пузырь бензидина, альфа-нафтиламина и бета-нафтиламина
впервые было отмечено в индустриях, использующих эти продукты.
Статистика, собранная на основе наблюдений за работниками разных
индустрий, представляет важность только тогда, когда ее рассматривают
в сравнении с остальным населением. Вместе с тем, вся популяция
также может соприкасаться с канцерогенными субстанциями, производимыми
индустрией, а работники данной промышленности имеют те же привычки,
что и остальные люди - например, курение.
Взаимосвязь между раком и возрастом. Каждый вид рака имеет
преобладание в определенном возрасте.1 Можно построить
систему координат, если указать возраст пациентов (t) на горизонтальной
оси, а распространенность (I) - на вертикальной. Таким образом,
мы получаем кривую, характеризующую каждый вид рака.
В уравнении I = btk, где
I - это заболеваемость
b - численная константа
t - возраст
k - численная константа
k представляет градиент кривой, то есть, увеличение частоты рака
в более пожилом возрасте.
После группирования всех видов рака, имеющих одинаковый
возрастной градиент, мы можем выбрать онкологические заболевания,
для которых правомерно искать общую причину - например, продолжительное
соприкосновение с каким-то внешним фактором. Если мы обнаружим географические
различия в возрастной кривой заболеваемости, то сможем сделать вывод,
что в некоторых странах, вероятно, присутствуют неизвестные внешние
факторы, отсутствующие в других странах. Таким образом, мы можем
ограничить область исследований, где происходит поиск внешнего фактора.
На рисунке
14.1 на возрастной кривой заболеваемости мы приведем пример
географических различий (Япония-Дания) в распространенности рака
груди. Кривая показывает снижение риска с возрастом в тех странах,
где частота болезни низкая (Япония), но в странах с высоким уровнем
болезни (Дания) риск с возрастом увеличивается. Это наводит на мысль
о некоем причинном факторе, которому требуется много времени для
создания эффекта, и который присутствует в странах с большой распространенностью
болезни, но отсутствует там, где ее уровень низок.
С точки зрения взаимосвязи возраста и частоты группа онкологических
заболеваний, включающая в себя рак желудка, простаты, мочевого пузыря,
толстой кишки, прямой кишки, пищевода, поджелудочной железы, глотки,
рта, языка, губы, пениса, кожи (в том числе меланомы) и почек (за
исключением пациентов очень молодого возраста), довольно однородна.
Этот длинный список мог бы быть аргументом в пользу точки зрения,
что все виды рака ведут себя сходным образом на кривой частоты-возраста.
Но статистика показывает, что это не так, и что для некоторых видов
рака есть отклонения от средней кривой. Поэтому следует искать фактор,
который мог бы нести ответственность за такие отклонения.
Например, бронхиальная карцинома и карцинома гортани имеют более
крутую возрастную кривую заболеваемости, чем большая часть других
онкологических заболеваний. Известно, что фактором, ответственным
за данное отклонение, является сигаретный дым. Доказательство состоит
в том, что если возраст пациента заменить стажем его курения, то
кривая будет совпадать с кривыми по другим онкологическим заболеваниям,
которые представлены на рисунке
14.2 (а одновременное потребление алкоголя в больших количествах
увеличивает риск возникновения рака вследствие курения).
Другой пример: с возрастом распространенность рака простаты увеличивается
больше, чем какой-либо другой карциномы. До 50 лет она бывает исключительно
редко, но у мужчин в возрасте около 70 лет это самый распространенный
вид опухолей. Очень крутая кривая частоты/возраста контрастирует
с остальными (см. рисунок
14.2). Но если мы заменим возраст пациента возрастом, из которого
вычли 32 года, то все кривые совпадут. Это ведет к предположению,
что после 50 лет начинает действовать какой-то неизвестный фактор.
Поскольку данная тенденция сходна во всем мире, мы можем допустить
некий экзогенный (внешний) фактор.
Рисунок 14.1. График, показывающий, насколько часто
по отношению к возрасту рак груди встречается в Дании и Японии.
Рисунок 14.2. График, показывающий частоту по отношению к возрасту
четырех видов рака в Дании (источник: Day и Muir, 1973).
|
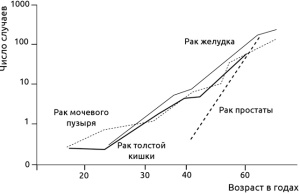
|
Вышеупомянутые наблюдения показывают, насколько противоречива и
странна эпидемиологическая информация о раке. Но неизвестные вещи
по определению непонятны. Например, в добактериальную эру, наверное,
казалось странным, что чума проявляется через образование бубонов
(вспухших лимфатических узлов), а холера, другое смертельное заболевание
- через диарею. И, должно быть, казалось странным, что один человек,
имевший внебрачные связи, расплачивался за них гонореей, а другой
- сифилисом. Обнаружение бактерий и их предрасположенности к тому
или другому органу открыло эти тайны. Противоречия были разрешены,
и появилось объяснение как для того, что присуще всем инфекционным
болезням (бактерии в целом), и что служило отличительным признаком
для каждого из них (отдельная бактерия).
То же самое может произойти с раком. По-видимому, его вызывает огромное
количество разнообразных субстанций. Одни и те же внешние факторы,
как признанные, так и неизвестные, определяют различия между популяциями
одной и той же расы либо оказывают одинаковое воздействие на популяции
разных рас. Все это кажется непостижимым и сбивающим с толку, но
путаница - не в фактах, а в нас. Распутать можно самый запутанный
узел. Один из эффективных путей к этому заключается в более грамотном
обращении к эпидемиологии, но это требует большого количества информации,
собранной квалифицированными техническими работниками на точных,
стандартизованных линиях и проанализированной компьютерными методами.
Одного электронного центра по обработке информации (см. главу
15) было бы достаточно для Европы, а другой мог бы быть в Америке.
Но лучшим вариантом все же был бы единый центр для всего мира. Но
как можно получать данные из отдаленных и технологически отсталых
стран? Конечно, не полагаясь на доклады от властей и больниц. Рассылка
проспектов и циркуляров (непонятных даже им авторам) в попытке дать
указания местным врачам столь же бесполезна, если не сказать нелепа:
мы говорим о докторах, которые ежедневно сталкиваются с проблемой
того, как делать внутривенные инъекции тупыми иглами, и которые
считают микроскоп с одним объективом, присланный каким-нибудь миссионерским
центром, вместе с консервами и обувью, "объектом, делающим
нашу больницу престижной".
Информацию должны собирать на месте опытные работники, чтобы потом
другой персонал, имеющий научную подготовку, произвел ее анализ
и оценку. И, наконец, лишь при условии того, что точность информации
не вызывает сомнений, ее можно вводить в компьютер. Если компьютеру
дать неверную информацию, он даст неверный ответ.
Арифметическая оценка эпидемий
Если мы проследим пример эпидемиологического заболевания, острого
или хронического, то обнаружим, что оно образует кривую, которая
после подъема и периода стабильности идет вниз и достигает примерно
того же уровня, откуда начинался подъем. Чтобы выразить это явление
простейшим образом, давайте будем считать, что эпидемия начинается
с одного человека, заражающего еще двух людей. Мы можем представить
курс эпидемии следующей числовой прогрессией:
1 2 22 23 24 25 26
27 и т.д.
После периода стабильности (короткого при острых эпидемиях, длинного
при хронических эпидемиях) шансы на заражение уменьшаются, следовательно,
количество вновь заразившихся людей тоже уменьшается, что, в свою
очередь дальше уменьшает риск поучения инфекции - пока эпидемия
не угаснет. Затухание эпидемии можно выразить с помощью числе следующим
образом:
27 26 25 24 23
22 2 1
Кривая прогрессии-стабильности-регрессии можно представить так,
как на рисунке 14.3.
В древности - по большому счету, еще несколько веков назад - некоторые
хорошо известные острые эпидемии чумы следовали по вышеописанному
"визуализированному" пути. В действительности, хронические
болезни, распространенные до сих пор (например, туберкулез), протекают
по той же модели. Было бы наивно думать, что туберкулез удалось
победить, только благодаря стрептомицину и гидразиду, либо благодаря
вакцинации. Еще более наивно было бы считать, что вакцинация искоренила
большинство бактериальных и вирусных заболеваний. Признавая, что
такие факторы как соблюдение гигиены и более качественное питание
сыграли роль в направлении кривой вниз, мы также должны признать
(как и многие вивисекционисты), что истинной причиной спада эпидемии
является пониженный риск инфекции.
С практической точки зрения эпидемиологию можно разделить на описательную
и аналитическую (см. Kesley и Parker, 1993).
|
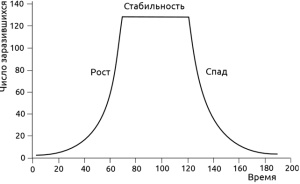
|
Рисунок 14.3. Компьютерная визуализированная кривая
Описательная эпидемиология (ОЭ)
ОЕ анализирует, каким образом болезнь (либо иная характеристика)
распределяется в популяции, при этом во внимание она принимает три
элемента: человека, место и время.
• Человек: люди с данной болезнью либо рискующие заболеть ею, в
соответствии с возрастным распределением, полом, расой, социально-экономическим
статусом.
• Место: распространенность болезни в рамках природных либо политических
границ, в городской и сельской местности, на разных широтах.
• Время: может варьироваться от дней и годов до веков.
Аналитическая эпидемиология (АЭ)
АЭ стремится объяснить, почему данная болезнь (или иная характеристика)
имеет место в данной популяции. Она может принимать форму исследований
методом "случай контроль", когортного анализа или одномоментного
поперечного углубленного исследования.
• В исследованиях, проводимых методом "группа-контроль",
группу людей с данной болезнью сравнивают с группами людей, у которой
этой болезни нет (контрольная группа).
• В когортных исследованиях группы (когорты) людей, у которых в
начале исследования болезни нет, классифицируют в соответствии с
тем, подвергаются ли они определенному риску (например, связь между
раком легких и курением сигарет). Затем за группой наблюдают в течение
определенного времени и сравнивают количество людей, получивших
болезнь (коэффициент заболеваемости) либо количество людей, умерших
от болезни (коэффициент смертности) с числом не пораженных людей.
• В одномоментных поперечных углубленных исследованиях изменяют
подверженность предположительному фактору риска и частоту интересующей
болезни в заданный момент времени в группе людей. Количество заболевших
людей, которые подвергались фактору риска, сравнивают с количеством
не подвергавшихся этой опасности.
Примечания
1. Эпи+деми+ология: от греческих слов на+люди+исследование.
2. Джон Сноу (John Snow, 1813-1858) - англичанин, первооткрыватель
анестезии, использовавший хлороформ и эфир.
3. В ходе регулярного изучения гистологических микроскопических
препаратов органов, полученных от трупов, и операционных препаратов,
взятых при неонкологических заболеваниях, мы поражаемся тому, насколько
часто обнаруживаем "карциномы в месте нахождения" - то
есть, очень маленькие карциномы (300-400 микронов в диаметре, не
выходящие за пределы базальной мембраны), особенно в областях, которые
более предрасположены к инвазивному раку, таких как шейка матки
и простата. Это наводит на мысль, что рак постоянно образуется в
организме, но какое-то неизвестный защитный механизм (возможно,
определенные антитела) блокирует либо разрушает его.
4. Частота злокачественных новообразований увеличивается с возрастом.
После 80-летнего возраста их распространенность уменьшается, а после
90-летнего почти сходит на нет.
5. Сегодня каждая страна независимо от других стран и часто на основе
разных критериев собирает свою собственную статистику по раку. Результаты
фиксируются в учетных книгах по раку. При этом фрагментация такова,
что некоторые страны имеют больше одной учетной книги: например,
в Германии их четыре. В мире существует около 80 книг регистрации
рака, и это означает, что большинство стран не имеют даже одной.
В Италии есть два региональных регистрационных журнала, один в Пьемонте,
а другой в Ломбардии. Также существуют два Атласа смертности от
рака, составленные на основе данных ISTAT (Центральный институт
статистики в Риме - Istituto Centrale di Statistica), при этом один
из них подготовлен Институтом биометрии и медицинской статистики
(Istituto di biometria e Statistica Medica) в Университете Милана,
а опубликовала его Итальянская лига борьбы с раком (Lega Italiana
per la Lotta Contro I Tumori) в Риме; редактором другого же (за
период 1971-1974) был физический институт Университета Милана.
14.
Компьютерное моделирование
От компьютеров нельзя ожидать суждений,
но они неизмеримо превосходят человеческую способность, когда речь
идет о выполнении быстрых и точных математических расчетов. Компьютеры
не имеют критического мышления. Зато у них есть очень большой объем
памяти, куда вмещается неограниченное количество информации, и воспроизводит
он ее при нажатии кнопки. При сочетании этих двух способностей компьютер
может давать результаты или выводы, которые в трех отношениях отличаются
от того, на что способен человеческий ум.
1. Компьютер дает все результаты, которые можно получить из заданного
набора фактов, а человеческие расчеты, совершаемые под управлением
воли, часто пропускают внешне неважные комбинации, которые, вместе
с тем, важны для результата. Это потому что мозг при работе "экономит"
время и энергию, а компьютер, благодаря огромной рабочей скорости,
имеет практически неограниченное время и энергию.
2. Компьютер не "забывает", то есть, не забывает никакой
части получаемой информации.
3. Компьютер не делает ошибок. Его расчеты, какими бы сложными они
ни были, всегда ведут к точному результату. Конечно, это зависит
от информации, которую он получает.
Как и вся человеческая деятельность, научные исследования имеют
прошлое, настоящее и будущее. Прошлое - это сумма уже полученных
идей. Настоящее - это время, когда уже полученные идеи подвергаются
критической оценке, и делаются планы относительно новых линий исследования.
Будущее - это то, чего ожидают в результате текущей деятельности.
Выбор исследовательского проекта
Все исследования новых фактов имеют в своей основе существующие
знания, хотя нет такого человеческого мозга, который бы смог усвоить
все знания, даже в виде элементарных научных фактов. Вместе с тем,
у компьютера эта способность есть. Он представляет собой огромное
хранилище знаний и самый разносторонний архив с самым быстрым доступом
из когда-либо изобретенных.
Самым главным результатом мнемонических способностей компьютера
является то, что они помогают избегать бессмысленного повторения
исследований. Не будем преувеличением, если мы скажем, что объем
бесполезных исследований, проводимых и публикующихся из года в год
- бесполезных, так как ранее они уже проводились - по меньшей мере
в сто раз превышает объем исследований, составляющих оригинальный
вклад, небольшой вклад. Здесь возникает вопрос, благосклонно ли
ученые относятся к методу, без обиняков говорящему им: "Это
исследование бесполезно - его уже проводили". На самом деле,
одна из задач настоящей книги - помочь исследователям вернуться
в правильную сферу, чтобы наука перестала быть "очередным способом
зарабатывания на жизнь", надежным источником денег или машиной,
более не соотносящейся с социальной реальностью. Для вмещения всех
медицинских докладов, публикуемых во всем мире, хватило бы около
ста периодических изданий. Вместо этого их более шести тысяч. Если
бы мы посчитали все их страницы, то, вероятно, обнаружили бы, что
они многократно превышают количество людей, читающих их. Тут работает
большой бизнес. Но какой ценой?
Изучение литературы
Это считается само собой разумеющимся, что ученый перед началом
любого исследования должен обратиться к многочисленным публикациям
по его теме или смежным вопросам. В идеале следует справиться обо
всех существующих публикациях на всех языках. Это бывает проблематично
и не в последнюю очередь вследствие языкового барьера, но еще труднее
при использовании стандартных методов систематизировать всю собранную
информацию в легкодоступную форму.
Именно здесь компьютер приходит нам на помощь. Мы должны прежде
всего (это самая важная стадия) составить список всех тем, имеющих
отношение в изучаемому вопросу, затем прочитать публикации, подчеркивая
все перечисленные темы, о которых шла речь, и ввести их в компьютерную
память. Например, в исследовании причин рака интерес представляли
бы такие темы как вирусы, антитела, антигены, химические канцерогены,
пор, возраст, географическое распределение и т.д. Их можно ввести
в память компьютера, который по требованию выдаст все публикации,
где рассматриваются или просто упоминаются вирусы, антитела, химические
канцерогены и т.д. Более того, он может он может дать нам комбинации
двух или более тем, связывая, например, вирусы с антигенами, возраст
с географической распространенностью и т.д. Если ученый делает такую
работу вручную, используя ручку и бумагу, это займет у него всю
оставшуюся жизнь и, более того, увеличит риск ошибки, которые неизбежны
при переписывании ручным способом.
Разработка проекта
Компьютер может руководить нами при разработке проекта. Работа программиста
заключается в полном использовании кибернетического потенциала компьютера.
Если бы программирование дало компьютеру выбор вмешиваться в любой
момент, он мог бы управлять нами шаг за шагом, указывал на противоречия
и не позволял нам заходить в тупик. Это обязательная функция компьютера,
особенно в эпидемиологических исследованиях, но также и в крупномасштабной
статистике в целом.
Как я уже говорил, человеческий мозг может делать то же самое. Но
компьютер делает это с астрономической скоростью и безошибочной
точностью. Например, если идея, присутствующая в публикации, имеет
связь с аналогичной идеей из другой опубликованной статьи, очень
отличающейся по своему характеру от первой, это может ускользнуть
из внимания даже самого педантичного читателя, но в случае с компьютером
такого не произойдет (при условии, если последний получил правильные
указания или программирование).
Предложения для созидательного подхода
Компьютер не создает новых идей; это делает человеческий мозг или,
по меньшей мере, так кажется. На самом деле мозг не творит в библейском
смысле этого слова, но он может воссоздать информацию из памяти
и вывести связи. Объяснение или идея, которые происходят из этого
процесса, благодаря перегруппировке составляющих их идей, новы,
но все же они включают в себя части, которые существовали раньше.
Здесь уместно привести сравнение с химическим синтезом. Если мы
соединим водород с хлором, то получим соляную кислоту, и о ее новизне
можно говорить ввиду того, что она обладает свойствами, отличными
от свойств составляющих компонентов. Но это не "сотворение".
Компьютер работает аналогично тому, как это делает человеческий
мозг, то есть, сочетая уже имеющиеся в нем элементы. Компьютер может
производить гораздо более разнообразные и многочисленные комбинации
данных, хранящихся в его памяти, нежели человеческий мозг. Комбинации,
предлагаемые компьютером, не есть "идеи" сами по себе,
но они могут служить источниками идей для тех, кто открыт к предложениям.
Это требует тщательных теоретических и практических знаний об инструменте
и большой практики его использования.
Компьютер как экспериментальная модель
Выбор исследовательского проекта; изучение литературы, разработка
проекта; творческие предложения: все то, что мы уже сказали о компьютерах,
пока что иллюстрирует его роль как помощника при выполнении научных
исследований. Компьютеры предлагают нам свою память, способную хранить
неограниченный объем информации, которую можно получить в любое
время без задержек; они мгновенно могут проверить обширную библиографию,
они могут управлять нами при разработке проекта. Вместе с тем, компьютеры
можно также использовать "более автономным" образом -
в качестве экспериментальных моделей.
Превратить компьютер в экспериментальную модель (моделирующую программу
или математическую модель) означает запрограммировать ее с использованием
максимального количества подтвержденной, уже имеющейся у нас информации
об определенной структуре или функции, будь она механической, физической,
химической или биологической. Например, можно дать указание компьютеру,
чтобы он смоделировал дыхательную систему человека или другого животного.
Какую информацию мы должны ввести в компьютер, чтобы он выполнил
данное моделирование? Это потребует всей информации, относящейся
к дыхательному механизму: частоту дыхания, минутный объем сердца,
мертвое пространство, остаточный объем, жизненную емкость легких,
растяжимость легких и т д. и, кроме того, парциальное давление атмосферного
кислорода, концентрацию кислорода и углекислого газа в крови, кривую
распада гемоглобина, данные, связанные с кислотно-щелочной системой
крови - короче, все, что нам точно известно про человеческое дыхание.
Превратившись, таким образом, в своеобразный дыхательный аппарат,
компьютер будет способен рассчитать результаты вариаций, которым
могут подвергаться одна или несколько систем, включающих в себя
дыхание. Например, что происходит в крови человека, который вдыхает
воздух с парциальным давлением атмосферного кислорода в 120 или
110 мм ртутного столба (на уровне моря и при температуре 21°) вместо
"нормальных" 158? Как изменится состав выдыхаемого воздуха?
А что произойдет с частотой дыхания и минутным объемом сердца? Компьютер
ответит на эти вопросы правильно и быстро, но только если ему дать
точную информацию. Как мы можем ожидать правильных ответов, касающихся
человека, если мы введем информацию, например, о частоте дыхания
кролика?
Компьютер честный инструмент - из всех исследователей он, несомненно,
наиболее честный. Так давайте не путать его неправильными или неточными
данными или же введением информации, полученной от животных. Если
мы будем делать это, значит, мы увековечим ошибки, которые ранее
насквозь загрязнили человеческую физиологию и медицину. Мы должны
противодействовать такому засорению и отказаться от всей информации,
полученной на животных. Лучше ввести в компьютер меньше данных,
чем огромное количество, где, однако, скрываются неточные сведения.
Компьютер также можно использовать, чтобы смоделировать действие
лекарства внутри организма: время, необходимое для всасывания кишечником
(если медикамент принимают через рот); его концентрацию в крови;
происходящие с ним изменения в печении других органов и выделение
его через почки или слюноотделение или потоотделение или пищеварительный
тракт3. Здесь, опять же, мы должны давать компьютеру точную информацию,
относящуюся исключительно к людям, и избегать всякой неверной и
непроверенной информации. Например, что компьютер сможет рассказать
нам о метаболизме морфия в человеческом организме, если вводимые
данные содержали пусть даже один результат (одного более чем достаточно)
работы с кошками? (Как упоминалось в главе 3, морфин оказывает возбуждающее
действие на кошек)
Наконец, сердечно-сосудистая система особенно подходит для математического
моделирования. Hydrospace Research Corporation в Национальном Институте
сердца (National Heart Institute, США) уже разработала такую модель,
Mock Circulatory System (MCS). Она представляет собой физическую
модель, связанную с компьютером для программирования нормальных
и ненормальных ситуаций, таких как усталость, шок и действие лекарств.
Эти три примера должны дать некоторое представление о компьютере
как модели, но возможности в данной сфере бесконечны. Единственное
их ограничение состоит в мастерстве и воображении исследователя
при работе с устройством.
Чтобы использовать компьютер в полной мере, требуется математическое
образование; таким образом, единственным языком для общения с компьютером
является математика. На факультетах медицины и хирургии необходимы
кафедры кибернетики, а допускать к обучению на них следует только
тех выпускников, которые прошли двухлетний курс математики и физики.
Такой курс надо изучать в течение первых двух лет обучения по медицинским,
биологическим и ветеринарным специальностям, чтобы выпускник, который
на протяжении трех или четырех лет получает последипломное образование,
стал достойным исследователем или, как минимум, имел необходимый
для этого багаж.
Во всех больницах, как государственных, так и частных, следует поддерживать
использование компьютеров, и это происходит все чаще. Конформист,
жертва преобладающего заблуждения, все еще мыслит с точки зрения
иерархии, когда маленькая провинциальная больница стоит ниже городской
больницы, а городская больница стоит позади университетской клиники.
Но на самом деле, медицинские исследования на людях должны "идти
за болезнью", а это не подчиняется правилам иерархии. Исследования,
которые основываются исключительно на людях, должны проходить с
ориентиром на естественные модели (больных людей), где бы они присутствовали,
пусть даже в "маленьких провинциальных больницах".
Биологическая наука, особенно биология человека, в этом отношении
отличается от других наук - физик, химик, геолог, археолог может
перевезти изучаемый материал, будь то камень с Доломитов, раковины
с морских глубин, ископаемые животные и растения с Пиренеев или
даже куски пород с луны, к себе в лабораторию. Можно сказать, что
в этих науках движение объекта центростремительное, из окружающей
среды к ученому, а в медицинской науке оно центробежное: предметы
исследования необходимо изучать там, где они находятся, и исследователь
должен до них добираться. Поэтому изучение людских болезней должно
происходить там, где находится человек - если не в семье, то в больнице,
и, значит, во всякой больнице, даже в провинциальной. Но даже там
для сбора достаточного объема информации ручки и бумаги недостаточно.
А если бы во всех таких больницах были компьютеры, то информацию
из них можно было передать на более крупные компьютеры для анализа.
Это бы потребовало максимально обширного обмена информацией, который
бы включал периферию и завершался централизованным анализом; он
предполагает сотрудничество со всех сторон.
Чего такая организация медицинских исследований может достигнуть,
представить легко. И столь же нетрудно предсказать противодействие
со стороны центров могущества - политиков, фармацевтической промышленности,
университетов, ибо такая демократизация быстро подорвет сегодняшние
псевдоисследования.
Современные достижения в вычислительной технике
Современный технологический прогресс дал возможность производить
высокоэффективные компьютеры с очень большой скоростью и объемом
памяти. Новейшие суперкомпьютеры дают возможность ученым выполнять
миллионы операций в секунду. Такие компьютеры играют две важнейшие
роли в изучении живых систем:
1. Моделирование для получения данных.
2. Анализ этих данных посредством визуализации.
Визуализация это трансформация числовых данных в геометрическое
представление. Высокотехнологичные компьютеры дают возможность модифицировать
двухмерные изображения в трехмерные, что, например, позволяет хирургам
смоделировать хирургическую процедуру, прежде чем делать ее пациенту.
Компьютерное моделирование. Компьютерное моделирование обеспечивает
перспективы в таких медико-биологических дисциплинах как генетика,
клеточная биология, репродуктивная биология, кардиодинамика, неврология,
нефрология и динамика организма.
Компьютерное моделирование в генетике. В генетике компьютерное
моделирование исследует структурную эволюцию человеческого генома
и помогает воссоздать генетические эволюционные деревья. Анализ
взаимосвязей может определить местоположение и нанести на карту
гены, которые способствуют пониманию врожденных нарушений.
Компьютерное моделирование в клеточной биологии. Лучшее понимание
жизненного цикла клетки увеличивает наши возможности контролировать
развитие разных форм онкологических заболеваний. Более точное моделирование
процессов, происходящих в клетке, может использоваться для проверки
лечения, прежде чем применять его к больным.
Компьютерное моделирование в репродуктивной биологии. Во
многих странах у обоих полов снижается способность к воспроизведению
потомства. Это указывает на необходимость подробной модели, отображающей
репродуктивный цикл, чтобы обеспечить понимание того, каким образом
окружающая среда и/или другие факторы влияют на рождаемость в определенной
стране или популяции. Ту же самую модель можно использовать для
изучения динамики старения в репродуктивной системе млекопитающих.
Компьютерное моделирование в кардиодинамике. Вычислительная
модель может давать информацию о взаимодействии между миокардиальной
функцией и сердечными лекарствами, о динамике сокращения вследствие
кальция в случае приема сердечных медикаментов, о болезнях сердца
и их влиянии на кардиодинамику.
Компьютерное моделирование нервной системы. Суперкомпьютеры
могут моделировать функции отдельных нейронов в заболеваниях, вроде
болезни Альцгеймера, показывая, каким образом она прогрессирует,
и как ее лечить. На уровне нейрофизиологии компьютерное моделирование
может пролить свет на источник колебаний ритма в электрическом потенциале
электроэнцефалограммы.
Компьютерное моделирование почки. Компьютерное моделирование
может представить два важных механизма функционирования почек: (1)
способность к концентрированию у внутреннего мозгового слоя почек;
(2) колебания давления почечных каналец в механизме физиологического
контроля.
Компьютерное моделирование динамики тела. Моделирование биомеханики
скелета может показать нам, каким образом ударные силы передаются
через структуры скелета, и помочь в разработке протезов и биоимплантов.
На клеточном уровне коллагеновые фибриллы в здоровой связке располагаются
квазипараллельно, а в поврежденной их расположение произвольно.
Вместе с тем, когда ткань восстанавливается, фибриллы перегруппируются,
и этот процесс носит название перестройка коллагена.
Примечания
1. Во всем мире научному сообществу следовало бы принять соглашение
о публикациях только на одном языке, и этим языком должен быть
только английский. По этой причине, изучение английского языка
следовало бы сделать обязательным для всех студентов, изучающих
естественные науки.
2. У кролика частота дыхания - 40 вдохов-выдохов в минуту, а у
человека этот показатель равен 17 (в состоянии покоя).
3. Такую программу для изучения действия лекарств использует Университет
Питсбурга University of Pittsburgh) в США.
15.
Методы работы ин витро
Существует два способа изучения живых организмов
ин витро: поддержание жизнедеятельности в искусственных условиях
и культивирование в искусственных условиях1.
Поддержание жизнедеятельности в искусственных условиях заключается
в том, что у животного берут часть для исследования (фрагменты ткани,
органов, систем организма) и хранят ее в условиях, где она способна
жить ограниченное время - жить, но не размножаться. Это делается
следующими образами.
Фрагменты ткани держат в физиологическом растворе, водяном растворе
солей, необходимых для жизни клеток; ими являются хлорид натрия,
небольшие количества хлорида калия, кальция, фосфатов и гидрокарбоната.
Растворы общего назначения, растворы Рингера и Кребса, названы в
честь их создателей. Другие изготавливаются в соответствии с конкретными
требованиями.
Когда задействованными оказываются весь орган или система организма
(например, система сердце-легкие, мочевые пути), то их не только
помещают в один из вышеназванных растворов, но и пропускают раствор
внутрь. С этой целью в главную артерию вставляют катетер из пластика
или стекла, и физиологический раствор вводится через него под давлением.
Проходя через артерии, размер которых увеличивается, и в конце концов
достигая капилляров, жидкость проникает в мельчайшие структуры,
снабжает их веществами, необходимыми для выживания в течение короткого
периода времени, и уносит катаболиты (отходы). Потом она выходит
через вены.
Все это надо делать при правильной температуре (около 37°С для тканей
и органов млекопитающих)2. В этих условиях препарат (ткань,
орган, система организма) сохраняет жизнедеятельность несколько
часов, но характерные функции, которые сходны с тем, что имеет место
у живых животных, могут сохраняться только несколько минут. Потом
начинается дегенерация, быстро ведущая к смерти клеток.
Культивирование ин витро заключается во взятии маленьких фрагментов
ткани и помещении их в среду, где клетки могут не только выживать,
но и размножаться. Это может быть либо (1) культура клеток, которая
дает начало развитию колоний клеток одного типа, либо (2) культура
тканей, которая дает начало развитию двум или трем типам клеток,
связанным вместе в структуру, сходную с изначальной тканью, но не
идентичную (Blüchel 1976).
Культура клеток
Большинство животных и растительных клеток способны к автономному
воспроизводству, но при двух условиях.
1. Среда (питательная среда для культур), которая должна обеспечивать
нутриенты и удалять отходы.
2. Время, которое налагает лимиты с известными результатам, в то
время как их механизмы остаются неизвестными. Как и сложные организмы,
клетки при искусственной изоляции и культивировании имеют характерный
жизненный цикл от рождения до смерти, при условии, что у них сохранен
диплоидный характер3.
Клетки, отделенные от организма, имеют более короткий жизненный
цикл, чем те, которые живут с другими клетками, образующими ткань.
Таким образом, клетки могут вынести самостоятельную жизнь, но не
любят ее. Чтобы они прожили дольше, их надо связать с другими клетками,
и не просто сестринскими клетками, а клетками другого типа.
На самом деле, ткани большей частью являются координированными агрегатами
разных видов клеток, где один вид находится на службе у другого,
и живут они по законам, о которых мы знаем мало. Действительно,
мы знаем слишком мало об этих взаимодействиях между клетками, если
принять во внимание их роль основы многоклеточных животных и растений,
начиная от их развития из одноклеточных форм жизни в первобытных
болотах через колонии клеток4. Короткий жизненный цикл
большинства диплоидных клеток в культуре - хотя фибробласты могут
жить несколько лет - контрастирует с практически бессмертностью
бактерий.
Бактерии - не отдельные, а вид - живут всегда, при условии, что
их периодически перемещают в свежую среду, иными словами, если им
регулярно обновлять источник энергии и питательных веществ5.
Напротив, клетки многоклеточных животных в культивируемом виде имеют
жизненный цикл, который неизменно кончается смертью не только индивидуальной
клетки, но и всей колонии, даже если поддерживать обеспечение энергией
и питательными веществами6.
Здесь нам надо задать вопрос: а что такое смерть для одноклеточного
организма? Она может произойти двумя путями. Первый связан с воспроизводством.
Второй имеет место, когда воспроизводство прекращается - это смерть
в человеческом смысле. А в первом случае одна клетка перестает существовать
тогда, когда делится на две новые, и от материнской клетки не остается
следа. Во втором случае остаются разлагающиеся остатки материнской
клетки.
Питательная среда. Клетки и ткани7 выращиваются
в питательной среде. Все среды жидкие или полужидкие (например,
мягкий агар). Их много разных видов, некоторые общего назначения,
другие для определенных целей. Одни клетки без труда размножаются
в простой среде, другие - только в специально разработанной среде.
1. Любая среда должна содержать определенные базисные компоненты:
ионы (хлор, натрий, калий, магний, кальций, следы железа, цинк,
селен, медь, марганец, молибден, ванадий); фосфаты, кислые соли
угольной кислоты, глюкозу8 (или другой сахар с шестью
атомами углерода, годный к использованию клетками, такой как галактоза);
аминокислоты9 и витамины. Большинство клеток нуждается
в хлоре и мезоинозитоле. Определенным клеткам требуется присутствие
в среде полиненасыщенных жирных кислот (вроде олеиновой кислоты
и линолевой кислоты). Другие лучше размножаются в холестерине. Все
эти ингредиенты являются нормальными составляющими протоплазмы.
2. Все культуры клеток и тканей нуждаются в кислороде. Он проходит
в клетку через поверхность культуры. Таким образом, если в культурах
тканей объем культивируемой ткани слишком большой, то нижняя часть
ее умирает от недостатка кислорода. Оптимальная концентрация кислорода
различна для разных культур. Некоторые хорошо растут на воздухе
(21% кислорода, 78% азота, 1% инертных газов); другие лучше себя
чувствуют, когда давление кислорода ниже, чем давление воздуха,
еще каким-то, наоборот, требуется более высокое давление. Вместе
с тем, это давление, способствующее росту одних клеток, может повредить
и даже убить другие клетки.
3. Сосуды для культуры клеток и тканей должны содержать в своей
атмосфере углекислый газ (CO2), и его концентрация должна быть равна
концентрации бикарбоната в среде (для постоянного и быстрого контроля
за водородным показателем). Для большинства культур клеток оптимальная
концентрация CO2 составляет 2-5% (это сходно тому, что имеет место
в живых тканях).
4. Среда, которая используется для выращивания диплоидных клеток,
должна содержать 5-10% свежей животной сыворотки (обычно используется
телячья) или человеческой сыворотки. Поэтому среда для диплоидной
культуры клеток не может быть полностью синтетической (хотя имеются
некоторые исключения), и ее невозможно точно воспроизвести в разное
время и на разных местах. Более того, ее нельзя стерилизовать жаром.
5. Среда должна быть стерильной, то есть, свободной от бактерий,
грибковых микроорганизмов и вирусов. Для компонентов, способных
переносить нагревание, стерилизацию можно делать посредством автоклава;
а высокочувствительные компоненты, такие как сыворотка, стерилизуются
через фильтрацию. Потом эти две части смешивают. Однако начальная
стерилизация среды не исключает последующего загрязнения, поэтому
к ней могут быть добавлены антибиотики: пенициллин (100 единиц на
мл), стрептомицин (0,5 мг на мл) и неомицин (0,1 мг на мл). Вместе
с тем, ни стерилизация, ни фильтрация, ни использование антибиотиков
не способны защитить культуры клеток от вирусов и микоплазм10,
которые либо передаются в сыворотку, либо могут уже присутствовать
в тканевом матриксе.
6. Культуры нельзя подвергать длительному воздействию флуоресцентного
света, потому что при более короткой длине волны (ультрафиолетовые)
некоторые субстанции (рибофлавин, тирозин, триптофан) превращаются
в клеточные токсины.
Давайте вернемся к пункту 4 - необходимость свежей животной сыворотки
для диплоидных клеток (и, следовательно, первичной и вторичной культур).
Какие субстанции содержит клетка? Клетка содержит два вида молекул:
А) молекулы, обладающие малой молекулярной массой, или микромолекулы,
такие как витамины, аминокислоты, липиды, хлор;
Б) молекулы с большей молекулярной массой, или макромолекулы. Они
необходимы для роста в пробирке большинства диплоидных клеток. Бывают
исключения, когда диплоидные клетки могут развиваться при отсутствии
сыворотки (Evans и другие, 1964). Но при помещении в среду такие
клетки сами становятся источником макромолекул отчасти путем выделения
их, но главным образом через разложение умерших. Таким образом,
даже та среда, которая не обогащена животной сывороткой, всегда
содержит какое-то количество макромолекул.
Влияние сыворотки на культуры клеток и тканей происходит главным
образом благодаря фетуину11, но также и благодаря другим
альфа-глобулинам (Clarke и другие, 1970), гамма-глобулинам, инсулину
и колониестимулирующему фактору (Stanley и другие, 1968); гликопротеин
также обнаружен в человеческой моче (Metcalf и Stanley, 1969).
В культурах клеток сыворотка имеет следующее воздействие:
1. Она помогает клеткам прикрепиться к стенкам сосуда, где находится
культура (пластиковым или стеклянным)12 (Todaro и другие,
1965; Yoshikura и Hirokawa 1968).
2. Она способствует выравниванию клеток после того, как они прикрепились
к стенкам сосуда13.
3. Она стимулирует размножение клеток, в особенности, она реактивирует
"неподвижные" культуры (Todaro и другие, 1965; Yoshikura
и Hirokawa, 1968).
4. Она стимулирует неподвижные клетки к выработке ДНК. Восстановление
этого процесса происходит после 4-15 часов ожидания, в зависимости
от вида клеток. Количество клеток в колонии, возобновляющих синтез
ДНК, пропорционально качеству сыворотки (вместе с тем, избыточное
количество сыворотки "убивает" колонию). Различие, наблюдаемое
в реакции разных видов клеток, отражается в скорости делания выращиваемых
клеток (Temin, 1969).
5. Она стимулирует синтез рибонуклеиновой кислоты и белков (Wiebel
и Baserga, 1969) и ускоряет гликолиз. Синтез рибонуклеиновой кислоты
и белков является предварительным условием синтеза ДНК (Müller,
1969).
6. Она ускоряет вхождение в клетки уридина, гуанозина и цитозина
(Cunningham и Pardee, 1969; Yeh и Fisher, 1969).
7. Она стимулирует метаболизм фосфолипидов (Peterson и Rubin, 1969).
Этот эффект пропорционален количеству добавленной сыворотки.
8. Она не дает умереть вновь пораженным клеткам. Многие виды фибробластов
умирают, если их выращивать в течение одного-двух дней без сыворотки.
Мертвые клетки остаются прикрепленными к стенкам сосуда, хотя если
они умирают по другой причине, то отрываются и плавают на поверхности.
9. Сыворотка, в наибольшей степени лошадиная сыворотка, способствует
преобразованию нормальных эмбриональных клеток, особенно клеток
мышей и крыс, в раковые клетки (Jackson и другие, 1970). Вместе
с тем, эта трансформация может быть связана с присутствием в сыворотке
вируса.
10. Сыворотка должного качества и в нужном количестве способствует
спонтанному клонированию15.
11. Сыворотка имеет еще не объясненное воздействие на контроль плотности
клеток, то есть, явление, когда размножение клеток прекращается
после того, как клетки достигают определенной концентрации в среде.
Непрерывная перфузия. Начиная с момента, когда клетки или
фрагменты ткани входят в среду, состав последней меняется, и происходит
это отчасти из-за того, что клетки сразу же приступают к извлечению
питательных веществ из нее, но в большей степени потому, что к ней
добавляются продукты катаболизма и распада клеток. Обычно эти изменения
состава истощают способность среды поддерживать клетки живыми, и
поэтому они представляют собой негативный фактор, влияние которого
усиливается до тех пор, пока рост культуры из-за него не останавливается.
Предотвратить его можно двумя путями.
Самый обычный метод заключается в освежении среды, то есть, замене
ее части на новую. Это, как и все вмешательства, влечет риск бактериального
загрязнения, могущего привести к потере культуры. Более того, при
нем клетки оказываются в неустойчивой среде. Например, если освежение
среды происходит каждые 24 часа, то в первый час имеет место период
максимального "благополучия", а в двадцать четвертый -
максимального "упадка", когда концентрация токсичных продуктов
отхода становится наивысшей. В таких условиях на протяжении 24-часового
периода метаболизм, биохимический синтез, частота деления клеток
и их движение будут различаться очень сильно.
Второй метод заключается в перфузии, то есть, осуществлении постоянного
втекания/вытекания среды в сосуд и из него. Для этой цели разработано
множество технологических процессов, которые легко воспроизвести
и изменить.
Гораздо более сложны устройства, которые не только постоянно меняют
среду, но также заставляют сосуд вращаться, чтобы избежать застоя
тех слоёв среды, находящихся в самом тесном контакте с культурой
(последняя обычно растет на стенках сосуда).
Культивирование в искусственной среде и посев. Ткань для
выращивания берут у человека или животного. Согласно специализированной
литературе, количество экспериментов на животных клетках и тканях
больше, чем с использованием человеческих клеток и тканей. Кроме
того, самые постоянные клеточные линии имеют животное происхождение.
Это ни в коем случае не указывает на необходимость использования
животных в данной сфере исследований. Наоборот, это просто иллюстрирует,
как притупляющий эффект обычного порядка может превратить укоренившиеся
привычки в ритуалы.
Первичная клеточная линия, Первичную клеточную линию получают из
эксплантатов ткани или клеток, взятых посредством чрестеменной пункции
из амниотической жидкости или из лейкоцитов крови. Чтобы начать
выращивание первичной культуры клеток, достаточно совсем маленького
эксплантата - например, куска человеческой кожи диаметром в 1-3
мм. Каким образом используют такой эксплантат для получения культуры
клеток? Самый распространенный метод - дезагрегация.
Дезагрегация. Дезагрегация ткани состоит в отделении составляющих
ее клеток и волокон17.Чтобы отделить клетку, надо растворить
строму, внеклеточное вещество, которое, подобно клею, соединяет
их. Для этого используются энзимы. В соответствии с составом межклеточного
вещества и нужным количеством и качеством клеток подбирают определенные
энзимы. Энзимы должны действовать в определенной концентрации на
протяжении ограниченного количества времени, потому что их избыточное
использование повреждает клетки и особенно изменяет мембрану. Ниже
мы перечислим энзимы, которые чаще всего используются с этой целью.
• Проназа. Ее получают из грибка Streptomycetes griseus. Она
помогает клеткам разделяться и таким образом не дает образовываться
скоплениям клеток. Посредством активной переработки мертвых клеток
и фрагментов клеток она эффективно "чистит" клеточную
суспензию.
• Трипсин действует медленнее, чем проназа, и не всегда предотвращает
образование скоплений клеток.
• Трипсин в комбинации с EDTA18 достигает эффекта,
сходного с действием проназы.
• Коллагеназа: этот энзим используется реже, чем вышеописанные,
и применяют его для определенных целей.
При использовании энзимов для отделения тканей либо разделения
однослойных культур от стенок сосуда необходимо иметь в виду, что
все энзимы повреждают клетки. Поэтому время контакта и концентрация
должны быть минимальны, и их следует определить для каждого вида
клеток. После разделения ткани получившуюся разрозненную смесь разных
видов клеток помещают в питательную среду19, где некоторые
клетки умирают, а другие после непродолжительного периода ожидания
начинают делиться (но только способные на размножение20).
Но не все клетки делятся с одинаковой скоростью. Поэтому - отчасти
в зависимости от состава среды - количество наиболее активных начинает
превалировать над другими, и после определенного времени (после
прекращения деления и смерти некоторых клеток) в культуре остаются
только активные клетки. Они образуют первичную клеточную линию.
Клетки первичной клеточной линии ("диплоидные" клетки)
имеют следующие характеристики:
1. Форма, сходная с клеткой, из которой они происходят.
2. Ограниченная продолжительность жизни.
3. Диплоидное (или "эуплоидное") число хромосом - то есть,
такое же, как в материнской клетке.
4. Те же функции, что и у родительской клетки, хотя полностью совпадают
они не всегда.
5. Большинство клеток первичной клеточной линии, чтобы размножаться,
должны закрепиться на твердой основе (стенка сосуда, микрооснова
и т.д.). Исключение составляют хондроциты, различные клетки крови
и клетки костного мозга.
6. Первичные выращиваемые клетки требуют питательную среду, содержащую
сыворотку либо ее эквивалент.
Вторичная клеточная линия. При передаче или трансплантации
нескольких клеток первичной клеточной линии в другой сосуд с культурой
мы получаем вторичную клеточную линию (или клеточный штамм)21.
Последующие субкультуры (от второй к третьей, от третьей к четвертой
и т.д.) всегда носят название вторичные клеточные линии.
Если клетки сохраняют одно и то же количество хромосом (то есть,
диплоидное состояние, если они происходят из диплоидных клеток)
и характеристики первичной культуры22, то они, невзирая
на последующие культуры и время, ушедшее на их развитие, образуют
первичную клеточную линию. Однако со временем они склонны терять
свои изначальные характеристики и вырождаются, особенно в связи
со своими наиболее конкретными функциями (например, выработка гормонов,
если речь идет о клетке железы внутренней секреции). В то же время
их способность к воспроизводству, то есть, скорость деления, снижается.
За логарифмической фазой роста идет фаза стабильности, которая позже
сменяется спадом, и закончиться все может смертью целой колонии
(см. рисунок 16.1).
Это наиболее частая судьба клеточных колоний. Вместе с тем, иногда
(после недель или месяцев существования культуры или субкультуры)
группа клеток в "стабильной" культуре внезапно начинает
пролиферировать. Такая трансформация становится радикальным изменением
в жизни колонии: зародилась новая клеточная линия, постоянная
клеточная линия, и она ведет себя, подобно злокачественной опухоли,
в том, что: (1) она быстро подавляет другие клетки, которые умирают
и распадаются; (2) если ее клетки пересадить животному того же вида,
к которому относился донор, то у них разовьются характеристики,
аналогичные наблюдаемым при спонтанном раке.
|
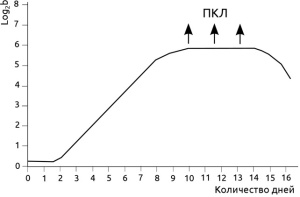
|
Рисунок 16.1. Кривая роста для идеальной клеточной колонии.
Примечания. 1,5-2 дня - фаза ожидания; 2-9 дней - логарифмическая
фаза; 9-14 дней - фаза стабильности; 14-16 дней - спад. Во время
фазы стабильности из линии культуры клеток могут развиться отдельные
постоянные клеточные линии.
ПКЛ - постоянные клеточные линии
Рисунок 16.2. Диаграмма клеточных линий
Постоянная клеточная линия. Клетки, образующие постоянную
клеточную линию, имеют следующие характеристики:
1. Их набор хромосом полностью отличается от того, который имелся
у материнской клетки, следовательно, они уже не диплоидные, а анэуплоидные
(или гетероплоидные).
2. Их можно выращивать в течение неограниченного времени, и они
всегда сохраняют фиксированные характеристики.
3. Они быстро растут, размножаясь с постоянной скоростью, и каждый
клеточный цикл обычно занимает менее 20 часов.
4. Им не требуется, чтобы в питательной среде присутствовала сыворотка
(или аналогичные составляющие).
5. Для размножения им не надо прикрепляться к основе, они могут
делать это в суспензии (то есть, они не зависят от опоры).
6. Их размножение не подавляется плотностью клеточной массы, то
есть, они не зависят от плотности.
7. Независимо от того, из какой первичной линии они произошли, постоянные
клеточные линии обычно соответствуют одному из трех стандартных
типов: фибробластному, эпителиальному или фиброцитному (последний
имеет наименьшую склонность держаться за основу).
8. Обычно клетки постоянных линий злокачественны.
Постоянные клеточные линии используются в разных исследованиях,
и их основные преимущества состоят в следующем:
1. Единообразие типа клеток. Культуры постоянных клеток можно посылать
в любую лабораторию, лаборатории могут обмениваться ими - так делают,
например, в случае с бактериями. В результате гарантировано почти
совершенное единообразие и воспроизводимость для экспериментальных
целей, даже когда лаборатории находятся далеко друг от друга. Определенные
постоянные клеточные линии, которые используются уже в течение многих
лет, получили названия и обозначения, так что специалисты могут
узнать их и выбрать для своего исследования наиболее подходящие.
2. Их можно хранить посредством замораживания. Это дает возможность
делать проверку в любое время и увидеть, изменилась ли клеточная
линия со временем, после многих транспортировок.
3. При тестировании химического вещества или вируса, подозреваемого
на мутагенное действие, при помощи постоянной клеточной линии, можно
быть более-менее уверенным, что эффект связан с этим веществом или
вирусом. Но при работе с первичными клеточными линиями, состоящими
из диплоидных клеток, всегда есть возможность того, что наблюдаемые
изменения связаны с нестабильностью, присущей самим диплоидным клеткам.
4. Клетки из постоянных клеточных линий легко клонировать. Единственным
ограничением постоянных клеточных линий является их крайняя "стандартизированность",
в результате, они меньше отображают настоящие ткани. В каком-то
смысле они скорее напоминают культивируемых простейших, чем клетки
человеческого или животного происхождения.
Клонирование. Существует два метода изолирования одной клетки
от других и наделения ее способностью к созданию клона. Первый состоит
во всасывании одной клетки пипеткой под микроскопом и немедленном
перенесении ее в микрокаплю питательной среды. Эта процедура связана
с техническими сложностями.
Другой известен как метод Пака и Маркуса (Puck и Marcus, 1955) или
метод выращивания культур на пластине, и выполняется работа следующим
образом. Готовят очень разбавленную суспензию культуры, и когда
в среду помещают малое ее количество, то отдельные клетки оказываются
вдали друг от друга. После того, как под микроскопом фиксируют рост
колонии24, ее сразу же перемещают в другой сосуд. Данный
метод прост, но он менее точен, по сравнению с вышеописанным, так
как никогда нельзя быть уверенным, что колония возникла из одной
желанной клетки (а не из двух клеток или большего их числа).
Первые попытки (примерно в 1948 году, см. Schimmer, 1979) создать
культуру клеток посредством клонирования увенчались неудачей и обнажили
сбивающий с толку факт, что в изоляции одна клетка даже при переносе
в подходящую среду не размножается, а умирает. Что недостает питательной
среде, так это определенных субстанций, производимых самими клетками25.
Но чтобы эти вещества попали в среду, необходимо присутствие достаточного
количества клеток.
Существование этих веществ было продемонстрировано экспериментально,
и выяснилось, что если отдельную клетку поместить в среду, которая
раньше содержала другие клетки (того же или иного типа), то клетка
эта выживет и будет размножаться, производя клоны. И теперь клонирование
осуществляют посредством использования "кондиционированной
среды", то есть, среды, которую ранее использовали для выращивания
других клеток.
Популяция клеточных клонов обеспечивает преимущество в виде почти
идеального генетического единообразия отдельных клеток. Это особенно
полезно при изучении мутагенных факторов.
Культуры микрооснов. Клетки, зависящие от опоры, находят
в сосуде отчасти ограниченную площадь поверхности. В результате,
плодовитость культуры (ее развитие обычно кончается тогда, когда
стенки сосуда покрываются монослоем клеток), довольно низкая. Для
увеличения выхода были разработаны культуры с микроосновой (Thilly
и Levine, 1979). Микросубстраты - это крохотные гранулы диаметром
от 50 до 100 микрон, и их добавляют в нужном количестве в питательную
среду. Клетки прикрепляются к поверхности гранул и делятся. Культуры
на микросубстратах могут повысить урожайность культуры в 10-20 раз.
Клетки удаляются с гранул таким же образом, как и со стенок сосуда,
то есть, при помощи протеолитических энзимов проназы, трипсина и
коллагеназы. Выращивание клеток на микросубстратах особенно удобно
при изучении вирусов.
Математическое выражение развития культуры. Культуру можно посеять
при помощи одной клетки (клонирование) или при помощи нескольких
клеток (выращивание на пластине). В обоих случаях ее развитие происходит
по модели, проиллюстрированной на рисунке 16.1 и включающей в себя
следующие стадии:
1 фаза: ожидание27
2 фаза: логарифмическое размножение
3 фаза: стационарная фаза
4 фаза: упадок и смерть культуры
Эти фазы варьируются, в зависимости от типа клеток, состава питательной
среды и других факторов. Ниже последует описание идеальной культуры.
Самая большая скорость размножения клеток имеет место во время фазы
логарифмического размножения.
Логарифмическая фаза. После посева одной клетки первое поколение
состоит из двух клеток, второе - из четырех, третье - из восьми.
Следовательно, количество (b) клеток в каждом поколении выражено
в следующих равенствах:
1 поколение: b = 1 × 2 = 2
2 поколение: b =1 × 2 × 2 (т.е., 1 х 2²) = 4
3 поколение: b = 1 × 2 × 2 × 2 (т.е., 1 × 2³)
= 8
Или, если речь идет о посеве одной клетке, а число поколений обозначить
как "n", то мы обнаружим:
(1) b = 1 × 2ⁿ
С другой стороны, если посев производить при помощи количества клеток
a (а>1), то на смену уравнения (1) придет следующее:
(2) b = a × 2ⁿ
Из равенства следует, что рост количества клеток в развивающейся
культуре является показательной функцией с основанием 2, которая
значительно облегчает вычисления, если ссылаться на логарифм числа
клеток вместо их количества.
Например, если использовать систему координат Декарта, где ось абсцисс
выражает время роста, а ось ординат - логарифм с основанием 2, то
мы получим прямую линию для периодов неизменного роста (рисунок
16.1, дни 2-8). Вместе с тем, обычно посевы содержат большое число
клеток. В результате, удобнее использовать логарифмы с основанием
10, а не 2, имея в виду, что логарифмическая шкала с основанием
2 находится в следующей зависимости со шкалой с основанием 10:
log10y= log2 y × 0.3010
где y - любое число.
Возвращаясь к равенству (2), его можно выразить при помощи логарифма
с основанием 2 следующим образом:
log2b = log2a + n
Если использовать вместо него логарифм с основанием 10, то равенство
станет следующим:
log10b = log10a + n log102
но, поскольку log10b = 0.3010, то мы также можем написать:
log10b = log10a (n × 0.3010)
Это равенство дает нам возможность выразить значения "n",
или число поколений, произведенных с момента посева до момента исследования.
В результате, "n" мы находим следующим образом:
|
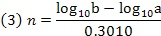
|
Затем, если мы хотим определить среднее время генерации (g)
за тот же интервал, поскольку
то
|
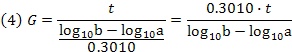
|
Вышеприведенные равенства дают возможность вычислить базовые параметры
клеточной популяции, то есть, количество клеток, присутствующих
при посеве (а); количество клеток после определенного времени (b);
среднее время генерации (g).
Вместе с тем, это касается только тех расчетов, которые действительны
только для постоянных значений. В частности, среднее время генерации
не постоянно в течение всего цикла развития, и за посевом следует
фаза ожидания, которая характеризуется очень продолжительным средним
временем генерации. Затем идет логарифмическая фаза, подчиняющаяся
экспоненциальным законам, коими являются фаза стабильности, а затем
упадка.
Логарифмическая фаза характеризуется постоянством времени генерации.
Постоянство дает возможность изобразить показательную функцию деления
клеток с течением времени прямой линией. Конечно, не все клетки
в культуре делятся, и не все делятся с одинаковой скоростью. Это
явление имеет статистическое постоянство, благодаря большому количеству
клеток в колонии и большому проценту тех, которые делятся активно.
На самом деле даже на логарифмической фазе есть некоторые подавленные
клетки, которые неспособны делиться. Но их присутствие не меняет
общей тенденции этого явления, которое можно представить так, как
будто все клетки ведут себя одинаково в одно время.
Стационарная фаза - упадок и смерть. За переходом от логарифмической
фазы к стабильной следует увеличение среднего времени генерации
и снижением процента активного делящихся клеток. Время генерации
стремится к бесконечности, и это значит, что в определенный момент
размножение прекращается. Но отсюда не следует, что большинство
клеток не остаются в живых какое-то время28.
Во время фазы стабильности, которая представлена на рисунке 16.1
линией, параллельной оси абсцисс, число умирающих клеток примерно
такое же, как и число растущих и размножающихся клеток. Но такое
положение не сохраняется долго; клеточная популяция начинает сокращаться
по мере того, как умирает все больше клеток, пока не умрет вся культура.
Во время фазы упадка замедляется гликолитический метаболизм клеток,
в цитоплазме накапливаются гликоген и липиды, и у фибробластов исчезает
способность образовывать коллагеновые волокна.
Время генерации. Время генерации (G) меняется не только в
зависимости от типа клеток, но и в зависимости от возраста донора
клеток. Это очень видно в фибробластах: взятые от зародыша растут
быстрее, чем от взрослого, и чем старше донор, тем медленнее растут
фибробласты в культуре (Martin и другие, 1970). Также фибробласты,
взятые у детей с генетическими болезнями прогерия и синдром Вернера29,
растут медленно, как у пожилых людей (Goldstein и другие, 1969,
Martin и другие, 1970).
Замедление и прекращение роста. Почему культура клеток на
определенном этапе своего развития перестает расти? Это проблема
универсальной важности, и она отражается в более старых вопросах:
почему животные перестают расти по достижении определенного размера,
почему орган растет только до определенного размера, а также в смежном
вопросе, почему все живые организмы имеют характерные размеры и
формы, определяющие их внешность и отличающие их от других. Универсальная
природа этих проблем заставляет задуматься о важности исследования
их с самых истоков, то есть, в виде мельчайших единиц организма,
клеток.
Когда первичная культура клетки (диплоидная культура) достигает
определенного размера, ее клетки перестают делиться30.
Нечто должно "информировать" индивидуальную клетку о том,
что достигнуто состояние клеточного сообщества или колонии. Мы далеки
от понимания того, что происходит, но удалось установить некоторые
важные факты.
Кажется, что один из факторов, подавляющих размножение клеток, -
это контакт между одной клеткой и другой. Данное явлением
описывают термином контактное торможение или топоингибирование31.
В свою очередь, контакт между клеток происходит из-за их уплотнения
в культуре. Совершенно очевидно, что чем более скученно они находятся
в культуре, тем больше между ними взаимных контактов. Но каким механизмом
подавляется деление клеток? Одним важным механизмом служит подавление
движения клеточных мембран, особенно цитоплазматической мембраны32.
По мембране постоянно пульсируют волнообразные движения, которые
особенно ярко выражены на псевдоподии33.Эти перистальтические
волны могут достичь высоты в 5 микронов, что сравнимо с размером
самой клетки. Движение той части мембраны, которая держится за стенку
сосуда, дает возможность клетке, вновь возникшей посредством деления,
переместиться на ее место, заняв соседнюю территорию34. Когда клетка
соприкасается своей передней кромкой, то движение прекращается,
и края двух клеток плотно прикрепляются друг к другу. Вместе с тем,
позднее та же самая клетка может возобновить движение в ином направлении,
уступая место другой возникнувшей клетке. Чтобы это сделать, ей
надо освободиться от одной или более клеток, к которым она уже прикрепилась.
Отрыв требует значительных "усилий".
Благодаря этим изменениям в положении клеток, культура распространяется,
подобно масляному пятну, и образует что-то вроде мозаики на стенках
сосуда. Эти движения и перистальтическое движения цитоплазматической
мембраны становятся хорошо видны, если культуре нанести "травму"
(то есть, разрыв посредством удаления некоторых клеток). Клетки
по краям раны начинают двигаться и с помощью размножения и расположения
в соответствующем порядке вскоре восстанавливают удаленную часть.
Это имеет полное сходство с происходящим с тканями на живом организме.
Помимо контактного торможения, прекращению роста культуры способствуют
другие факторы, а именно, истощение определенных субстанций в питательной
среде или сыворотке, и накопление катаболитов, выделяемых клетками.
Но когда практикуется непрерывная перфузия, то эти факторы не имеют
отношения к делу, и было выдвинуто предположение о том, что клетки
вырабатывают подавляющие вещества, которые известны как кейлоны
и сравнимы с гормонами.
Характер соединений между клетками. Клетки однослойной культуры
крепко держатся друг за друга, благодаря двум видам связей35.
Первый тип действует на начальной фазе и представляет собой физическое
соединение, имеющее место вследствие электростатического притяжения,
вандерваальсовых сил36 или связей между атомами водорода.
Электростатическое притяжение происходит главным образом между пептидами
и протеинами цитоплазматической мембраны, поэтому когда культуру
клеток обрабатывают протеолитическими энзимами, перерабатывающими
белки и пептиды, то культура теряет свою целостность.
Вторая связь образуется на более поздней стадии: на пространстве
примерно в 100 Å между краями двух клеток откладывается вещество
под названием десмин, и оно усиливает связи. Протеолитические энзимы
могут переработать и его.
Межклеточные связи имеют огромное значение при исследовании злокачественных
опухолей. При выращивании ин витро клетки этих опухолей связаны
слабо или вообще никак. Поэтому в питательной среде они склонны
расти в подвешенном состоянии. По-видимому, это происходит главным
образом из-за относительно большого отрицательного заряда на их
цитоплазматической мембране. Электрические заряды двух соседних
клеток отталкиваются, раздвигая клетки в стороны. Это в значительной
мере проливает свет на склонность злокачественных опухолей расщепляться
в организме и таким образом освобождать клетки, которые переносятся
через кровь и лимфу в отдаленные ткани и органы, где образуют метастазы.
Никакое исследование на живом организме никогда не смогло бы раскрыть
столь важного факта для нашего понимания злокачественных опухолей.
Культуры тканей
Выращивать ткани означает позволить всем составляющим их клеткам
и волокнам развиваться в пробирке, так чтобы они могли гармонично
воспроизвести структуру, из которой происходят - например, для производства
большого куска кожи из маленького фрагмента или некоторого количества
печеночных долек из фрагмента печеночной ткани. Идеальные результаты
еще не повсеместны, но частичных успехов достаточно для того, чтобы
поддерживать дальнейшую разработку имеющихся методов и стимулировать
поиск новых.
При помещении в питательную среду ткань не развивается гармонично
во всех частях; это происходит главным образом потому, что один
вид клеток размножается со скоростью, подавляющей другие, и из культуры
можно получить только одну клеточную линию. Например, образец кожи
производит линию фибробластов. Эти клетки, лишенные своего
естественного контакта с другими компонентами ткани (другими клетками,
волокнами, мембранами) склонны терять свои изначальные характеристики.
Они выживают в течение ограниченного времени (что демонстрирует
общую "терпимость") либо они преобразуются в постоянные
клеточные линии с неопластическими свойствами. Это представляет
собой неопровержимое доказательство тому, что неопластические клетки
в пробирке или в организме, не нуждаются в других клетках; они независимы,
беспорядочны и вследствие своей способности забирать питательные
вещества из других клеток являются хищническими.
В культуре клеток обычно желателен обильный урожай. Интенсивный
рост и продленная логарифмическая фаза говорят о том, что клеткам
"нравятся" обеспеченные им условия.
С другой стороны, в культуре тканей желателен медленный,
ограниченный рост. Идеальной средой была бы такая, где ткань бы
прекратила расти по достижении определенных критических размеров,
как это происходит у живых существ - у них только опухоли продолжают
расти неограниченно, а нормальные ткани в процессе физиологического
роста либо заживления ран перестают расти "в нужный момент".
Ткань в пробирке, лишенная крови, поглощает питательные вещества
и кислород (и удаляет катаболиты и углекислый газ) через внешние
поверхности. Вместе с тем, если ткань растет слишком быстро, то
площадь поверхности оказывается слишком маленькой для данного объема,
и часть ткани, особенно внутренняя часть, умирает.
Способность тестировать в пробирке воздействие разных агентов (токсинов,
антигенов, антител, гормонов, вирусов, ионизирующего излучения)
на целые ткани опровергла бы возражение по поводу сравнимости тестирования
в пробирке и на организме - а именно, поскольку животное является
скоординированным комплексом органов и функций, то субстанции, тестируемые
на нем, проходят скоординированную серию трансформаций более чем
в одном органе и ткани, вместе с тем, в культурах клеток или фрагментов
тканей те же субстанции атакуют клетку непосредственно "в сыром
состоянии". Более того, атакуемые клетки не являются нормальными,
потому что они утратили некоторые свои функции и живут в неестественном
состоянии, без контакта с другими клетками. Например, при выращивании
в пробирке эпидермальные клетки уже не находятся в контакте с базальной
мембраной или кожной мезенхимой, а печеночные клетки в пробирке
не имеют дальнейшего контакта с ретикулоэндотелием. При улучшении
методов работы с культурой тканей открылось бы много новых путей:
например, воздействие в пробирке на почечную ткань можно было бы
изучать после подвергания ее метаболической обработке, которая могла
бы выполняться прохождением через печеночную ткань в пробирке.
Разумеется, это означало бы работу с человеческой тканью
(из почек, печени, сердца, нервной системы, желез внутренней секреции
и т.д.) Никто не помешает ветеринару делать то же самое для собак,
кошек или телят при условии, что такие эксперименты принесут явную
пользу этим животным. Точно так же исследования во благо людей могли
бы прогрессировать маленькими, но уверенными шагами, которые требуются
от точной науки. Оставшаяся часть этой главы покажет, что это не
утопия.
Работа с человеческими клетками: ответственный метод исследования.
Комплексная структура тканей, упорядоченное расположение многих
их составляющих может навести на мысль о централизованной организации,
как будто архитектор расположил клетки, каждую на нужном месте,
подобно строительным блокам, без их воли. Но это не так. Пробирочные
культуры продемонстрировали удивительный факт: каждой отдельной
клетке присуще "желание"37 объединяться и формировать
организованные структуры38. Вот некоторые примеры:
• Когда происходит дезагрегация эмбриональной ткани, то образуется
нескоординированная смесь разных видов клеток, подвешенных в питательной
среде. Но если суспензию несколько часов не трогать, то клетки
реорганизуются и формируют структуру, сходную с изначальной тканью
(Weiss и Taylor, 1960).
• Если дезагрегировать почки куриного эмбриона, а образовавшуюся
смесь клеток разместить на мембране яйца, то клетки вскоре реорганизуются,
появятся кровеносные сосуды и разовьется типичная ткань почек
(там же).
• Дезагрегированная кожа куриного эмбриона реорганизуется, и происходит
формирование новой кожи с характерными формами для перьев.
Эти и другие подобные эксперименты показывают, что клетки имеют
определенное "желание" взаимодействовать друг с другом
и образовывать структуры, для которых они изначально предназначены.
Удалось пронаблюдать и занять то, как возникают эти объединения,
какие при этом происходят движения. При смешении разных видов клеток
и нахождении их в жидкой среде был замечен удивительный факт: клетки
движутся вроде бы без какой-либо координации, но как только две
"сестринские" клетки соприкасаются, они объединяются и
больше не разъединяются. Другие присоединяются к первым двум, и
таким образом формируется скопление клеток одного и того же вида.
Это объединение не статичное, напротив, клетки внутри него постоянно
движутся, скользят, не разделяясь, а меняя позицию, словно каждая
слетка ищет себе наиболее подходящее место.
Столь же удивительно и нижеследующее явление: если разные типы клеток,
принадлежащие одному виду животных (например, клетки от мышиного
эмбриона), смешать с клетками другого вида (например, куриного эмбриона),
то клетки мышиного эмбриона соединятся с клетками куриного эмбриона,
при условии одинакового их вида; иными словами, эпителиальные клетки
мыши соединяются с эпителиальными клетками курицы, фибробласты мыши
- с фибробластами курицы и т.д. (Moscona и Moscona, 1952). Другими
словами, притяжение происходит скорее между клетками одного вида
от разных животных, чем между клетками разных видов от одного животного.
Методы работы с культурой тканей значительно более разнообразны
и менее стандартизированы, чем методы работы с культурой клеток.
Отчасти это является результатом естественных различий между тканями
и в некоторой мере отражает тот факт, что данные методы все еще
находятся на первоначальной стадии. Понятно, что трудности увеличиваются
пропорционально сложности культивируемой ткани. Мы упомянем только
несколько простых процедур, используемых при работе с культурой
тканей, чтобы показать степень мастерства, необходимого экспериментатору,
и то, насколько такие исследования могут быть стимулирующими - от
них будет в значительной мере зависеть дальнейшее развитие медицинской
науки.
Стенки влагалища и кожа представляют собой относительно простые
ткани39. Если маленькие фрагменты этих тканей поместить
в пробирочные условия, то дерма съеживается, а эпидермис полностью
покрывает ее, образуя своего рода цисту, и внутри последней дерма
из-за плохой проницаемости эпидермиса "задыхается" и дегенерирует.
Во избежание этого предпринимают следующую меру: вместо того, чтобы
помещать кожу или слизистую оболочку влагалища непосредственно в
питательную среду, ее размещают на куске вискозы, и дерма соприкасается
с тканью (Fell, 1972). В результате мезенхима, образующая дерму,
при развитии проникает в нити вискозы, и эпидермис более не может
окутать ее. Если впоследствии потребуются гистологические препараты,
то вискозу нетрудно растворить с помощью ацетона.
Культуры нормальных эпителиальных клеток полезны при изучении того,
как под влиянием химических соединений, вирусов и радиации такие
клетки трансформируются в канцерогенные. Вместе с тем, в отличие
от эпителиальных раковых клеток, нормальные эпителиальные клетки
в пробирке выращивать несколько сложно. Почему?
В живой ткани эпителиальные клетки, вроде клеток эпидермиса влагалищной
стенки, сильно зависят от мезенхимы, образующей дерму внизу, а еще
больше - от базальной мембраны40. Когда эпидермис отделяют от дермы
и помещают в питательную среду, то он не роговеет (то есть, оказывается
неспособен к развитию), а через несколько дней дегенерирует и умирает.
С другой стороны, если его вновь ввести в контакт с дермой, то клетки
будут делиться, развиваться нормальным образом и создавать базальную
мембрану. Это происходит даже тогда, когда эпидермис соприкасается
с дермой, которая была "убита" через повторное замораживание
и оттаивание. Если же ее убили теплом, то она теряет способность
поддерживать эпидермис живым. Следовательно, мы можем сделать вывод,
что если "убитая" дерма (но не денатурированная теплом)
поддерживает эпидермис живым и дает возможность ему созревать, то
искусственная мембрана с химическим составом, сходным с дермальным
коллагеном, должна иметь то же свойство. Эксперименты подтвердили
эту гипотезу. Если эпидермис поместить на слой коллагенового геля,
то клетки делятся, нормально кератинизируются и иногда даже создают
базальную мембрану41. Примечательно, что кератинизация
не происходит при помещении эпидермиса на коллаген, отличный от
коллагена дермы. Дерма содержит особый фактор для развития эпидермиса,
и в других соединительных тканях он отсутствует.
Эти открытия оказались удивительно согласованными. Если культивировать
кусочек эпителия, взятого у поднижнечелюстной железы эмбриона, в
контакте с мезенхимой, взятой в любой другой части тела, то он образует
лишь небольшое количество недифференцированных эпителиальных клеток.
С другой стороны, если его культивировать в контакте с мезенхимой,
предназначенной для образования капсулы железы, то он развивается,
формируя настоящие железистые ацинусы. Подобным образом молочная
железа развивается нормально, то есть, образуем ацинусы и железистые
каналы только при выращивании в контакте с молочной мезенхимой,
но не с какими-либо другими видами мезенхимы. Эта особая способность
мезенхимы направлять эпителиальные структуры является одним из самых
важных открытий в области эмбриологии последних десятилетий.
Но есть еще более важный факт, который имеет отношение к возможным
практическим разработкам. Только нормальные эпителиальные клетки
в том, что касается их роста и дифференциации, зависят от мезенхимы
и базальной мембраны, а канцерогенные растут независимо от этих
структур42. Эти открытия были бы невозможны без помощи
пробирочной культуры тканей.
Когда выяснилось, что "здоровье" эпителиальных клеток
зависит главным образом от контакта с базальной мембраной, то были
предприняты попытки создать искусственную базальную мембрану. Техническую
информацию можно получить в оригинальном опубликованном труде (Reid
и Rajikind, 1979), но основные положения мы приведем ниже. Базальная
мембрана состоит из:
1) коллагенового протеина;
2) связывающего белка LETS (большого внешнего чувствительного к
трансформации белка - protein LETS - Large External Transformation
Sensitive);
3) мукополисахаридов (или гликозаминогликанов).
Для искусственной базальной мембраны коллаген берут из кожи или
сухожилий; бывают ткани, которые содержат главным образом коллаген
типа 1, но в коже есть и небольшое количества типа 4 из базальной
мембраны, разделяющей дерму и эпидермис. Большую внешнюю трансформационную
субстанцию получают из культур фибробластов, на поверхности которых
ее обнаруживают в изобилии, а мукополисахариды получают методом,
описанным Холлом (Hall, 1976).
Для производства восстановленной базальной мембраны к 1,0 мл раствора
№1 (экстракт коллагена) добавляют 50 г большой внешней трансформационной
субстанции. Смеси дают возможность желатинизироваться в очень тонкую
пленку в культуральном сосуде (около 1 мг смеси на контейнер диаметром
в 35 мм). Эпителиальные клетки переходят из первичной культуры в
пленку, и ее затем помещают на культуру фибробластов43. Это производит
типичную кожу с тремя составляющими: эпителием, базальной мембраной
и мезенхимой.
Результаты показывают, что речь тут идет гораздо о большем, чем
простом техническом упражнении. Эпителиальные клетки, которые при
самостоятельном культивировании в пробирке растут медленно, в данной
сложной культуре (известной также как ассоциатично-клеточная) выживают
долго и сохраняют свои основные физиологические свойства.
Другая структура, которую можно воспроизвести в пробирке, - это
стенка сосуда: эндотелиальные клетки коровы при выращивании на крысиных
клетках гладких мышц создали структуру, аналогичную стенке кровеносного
сосуда, и она оставалась неповрежденной в течение нескольких месяцев44.
Стенка сосудов, полученная таким образом, могла бы быть полезной
при исследовании тромбоза, атеросклероза, чрестеменной миграции
лейкоцитов и способности раковых клеток проникать в стенки сосудов.
Методы ин витро: оценка и перспективы
Даже если бы культуры клеток и тканей больше ничего не могли предложить
- на мой взгляд, абсурдное допущение - их достижения на сегодняшний
день в полной мере оправдывают вложенные в них усилия. Это становится
ясно из простого рассмотрения тех сфер, где исследования иными методами
попросту невозможны, например:
• Эмбриология: демонстрация индукционной функции мезенхимы для
соответствующего эпителия.
• Физиология клеток: демонстрация (а) незаменимости базальной
мембраны для выживания эпителия; (б) того факта, что базальная
мембрана секретирует в значительной степени через эпителиальные
клетки;
• Соматогенез: самоограничение роста тканей - понимание "тайны"
форм и размера живых организмов.
• Патология: демонстрация (а) независимости раковых клеток от
базальной мембраны м мезенхимы; (б) непрочность связей, удерживающих
раковые клетки вместе; (в) "спонтанную" трансформацию
нормальных клеток в раковые.
Последнее явление самое пугающее - и самое многообещающее в случае
с исследованиями причин рака. Когда животное или человек "спонтанно"
заболевает раком, то мы можем только принять этот факт. Мы знаем
о данной болезни только то, что одна из клеток начала пролиферировать,
"как сумасшедшая". А к тому времени, когда мы узнаем,
что имеет место это неудержимое размножение, клеток насчитывается
уже несколько миллионов, и они с большой вероятностью продолжат
себя вести также.
Мы можем заметить, что такая же трансформация имеет место в пробирочных
культурах, от начальной стадии, когда первичная (эуплоидная) клеточная
линия внезапно становится постоянной (анэуплоидной), и состоит она
из раковых клеток. Мы видим, как увеличивается число хромосом до
тех пор, пока их количества не оказывается вдвое больше (тетраплоидность),
как будто новый вид животного возник из предшествующего. Новые клетки
более не признают в эуплоидных клетках своих сестер - они атакуют
и разрушают их.
Наблюдая это явление под микроскопом, мы чувствуем, что близки к
открытию причины - но какова она? Это вирус, который уже присутствует
в культуре? Как он туда попал? Может быть, он из органических субстанций
(телячьей сыворотки), образующих питательную среду? Или же он уже
присутствовал в эксплантате? Может быть, это вообще не вирус, а
переносимый по воздуху химический загрязнитель либо же химический
из стеклянного или пластикового контейнера. А возможно он связан
с иррадиацией из внешнего источника энергии, такого как космическое
излучение, ультрафиолетовое или рентгеновские лучи? Каким бы он
ни был, в таких экспериментальных условиях мы ближе к выявлению
его, чем при использовании какого-либо другого метода.
Потенциал культур клеток и тканей неограничен, потому что постоянные
усовершенствования все больше отодвигают границы исследований. Есть
множество сфер исследования:
• эксперименты на вирусах;
• эксперименты на гормонах и железах внутренней секреции;
• токсикологические эксперименты;
• эксперименты с мутагенными, тератогенными и канцерогенными субстанциями;
• иммунологические исследования;
• изучение энзимопатии.
Эксперименты на вирусах. Культуры клеток подходят для решения
следующих проблем:
• исследования культуры вирусов;
• исследования метаболизма вирусов;
• исследования патогенного действия вирусов на клетки;
• исследования мутагенного и канцерогенного действия;
• исследования противовирусных лекарств;
• производства противовирусных лекарств;
• производства интерферона.
Культура вирусов. Вирус - это мельчайшая часть живой
органической материи. Хотя, как и все живые существа, он способен
размножаться, но он не может существовать автономно - он способен
жить только в другой клетке, используя энзимы последней и метаболический
аппарат45.
В течение многих лет в культурах вирусов использовали самую крупную
известную клетку, яйцо курицы или другой птицы. По мере развития
культур клеток появилась возможность выращивать вирусы на соматических
клетках, которые можно было подобрать, благодаря их пригодности
для каждого из многих видов существующих вирусов46.
Одно из преимуществ использования культур клеток и тканей вместо
изучения вирусов на живом организме заключается в том, что культуры
клеток и тканей не содержат антител (которые быстро образуются в
живом организме для защиты его от вирусных атак). Это дает нам возможность,
с одной стороны, изучать способность клетки к самообороне, когда
ей самостоятельно приходится сражаться с вирусом, с другой - определить
механизмы, при помощи которых вирус атакует клетку и использует
ее содержимое и энергию без вмешательства антител - последние при
работе ин виво производятся организмом для самозащиты.
Если в питательную среду добавить определенный антивирус для данного
вируса, то инфективность вируса для клетки будет полностью или частично
заблокированной. Это чрезвычайно ценный способ оценки действия противовирусных
антител (Moffat, 1973).
Некоторые вирусы больше подходят, чем другие, для общего вирусологического
исследования. Одним из них является вирус SV 40 (или обезьяний вирус
40), который особенно подходит для изучения вирусной ДНК, участвующих
механизмов транскрипции и трансляции, взаимодействия между ДНК и
белками.
Несколько лет назад вирус SV-40 загрязнил партии вакцины против
полиомиелита. Это обнаружилось только после того, как вакцину распределили
и использовали. Мы не знаем, какими будут последствия, и будут ли
они вообще. Вместе с тем, мы знаем, что в пробирке вирус SV-40 превращает
нормальные человеческие клетки (диплоидные и эуплоидные) в раковые.
Возможно, это не просто совпадение, что сейчас мы начинаем слышать
о потенциально канцерогенном действии противополиомиелитной вакцины.
Аденовирусы полезны для изучения размножения ДНК-содержащих онкогенных
вирусов47. Известен 31 вид аденовирусов, патогенных для человека,
и некоторые из них активно размножаются48 в клетках HeLa.
Это дает возможность идентифицировать многие особенности генома49
данных вирусов. В самых "позволяющих"50 человеческих
клетках они в результате размножения производят около 200000 вирусных
частиц (под названием вирион) на клетку.
Вирусный метаболизм. В пробирке культура вирусов в
клетках позволяет идентифицировать вещества, необходимые для их
размножения, и это могло бы стать первым шагом на пути к открытию
вирусостатических субстанций: когда известно, что определенный метаболит
необходим для живого организма, то становится возможным найти соответствующий
антиметаболит для его инактивации. Например:
• Вирус полиомиелита активно воспроизводится в клетках HeLa при
условии, что питательная среда содержит глутамин. Предположительно,
антиметаболит глутамина мог бы остановить воспроизведение вируса
полиомиелита в организме.
• Для размножения вируса коровьей оспы и вируса GD-VII (который
вызывает энцефалит у мыши) необходимы соединения тиола. На это указывает
тот факт, что присутствие в среде п-хлорбензоата ртути, связывающего
и деактивирующего тиоловые соединения, подавляет рост этих вирусов.
Вместе с тем, рост вируса восстанавливается при добавлении глутатиона,
соединения серы, которое связывает п-хлоридбензоат ртути и, следовательно,
не допускает его воздействия на соединения тиола.
Эти примеры основаны на методе сложения-удаления, который используется
в вирусологии и состоит в удалении субстанции из среды организма
для установления того, играет ли она важную роль, или добавлении
субстанции для установления того, подавляет ли она развитие организма,
убивает ли его, либо, напротив, нейтрализует ли она уже присутствующую
вредную субстанцию.
Это старый метод, который использовался на живом организме, зачастую
с запутывающими результатами. Более того, его нельзя переносить
на человека. В качестве примера служит история с витамином С. Исключение
его из пищи обычных лабораторных животных не причиняет им вреда,
в то время как отсутствие его в питании человека ведет к цинге.
Несомненно, единственным действенным методом изучения вирусного
метаболизма является культура клеток. Исследование его на живом
животном было бы немыслимо.
Патогенное действие вирусов на клетки. Если клетка
оказывается пермиссивной по отношению к определенному виду вирусов,
то в ней происходят изменения, из-за которых она либо умирает, либо
становится канцерогенной. Вирионы отходят от мертвой клетки в поисках
других клеток, чтобы туда проникнуть и воспроизводиться в них.
Клетки однослойной культуры, которым привили вирус, принимают виду
гранулы, имеют склонность становиться сфероидными и, наконец, разрушаются
и умирают. При наблюдении невооруженным взглядом это явление кажется
образованием бляшек, или утолщенных областей на тонком, однородном
монослое. Количество бляшек и скорость их формирования служат критерием
оценки инфективности вируса для данного вида культуры. Это дает
указания относительно вирусного тропизма для разных органов и тканей
в живом организме и того, как они атакуют и повреждают их.
Мутагенное и канцерогенное действие. Трансформация
диплоидной клеточной линии в постоянную клеточную линию свидетельствует
о генетической мутации в клетке, которая становится анэуплоидной
и приобретает неоплазмические характеристики, в том числе способность
к бесконечному размножению. В некоторых случаях причина такой трансформации
остается неизвестной, но очень часто ею оказывается случайное заражение
вирусами. С другой стороны, трансформация часто, хоть и не всегда,
происходит при намеренном заражении культуры клеток вирусами.
Самая интересная особенность этих наблюдений заключается в следующем
факте: у многих животных причина злокачественных опухолей оказывалась
связана с вирусами, а у человека вирусы с практически полной уверенностью
вызывают только лимфому Беркитта. Однако, если перейти от целостного
организма к культуре в пробирке, то выяснится, что человеческие
клетки мутируются определенными вирусами (например, вирусом SV-40)
так же легко, как и клетки других животных. Это показывает потенциальные
опасности для людей, работающих с культурами клеток (Barkley, 1979).
Культуры клеток опасны при намеренном заражении вирусом, но они
еще более опасны, когда содержат канцерогенный вирус в стадии ожидания,
и об этом не знает экспериментатор. Например, человеческие лимфоциты
могут содержать вирус Эпштейна-Барра, который канцерогенен для человеческих
клеток. Поэтому с культурами клеток, а особенно с постоянными клеточными
линиями следует обращаться предельно осторожно.
По подсчетам, около 80% вирусных инфекций, берущих начало из лабораторий,
возникли вследствие вдыхания вируса или клеток/фрагментов клеток,
которые присутствовали в аэрозоле, образовавшемся в воздухе вокруг
культуры.
Исследование противовирусных лекарств. Насколько мы
знаем, вирусы не обладают собственными энзимами, но используют энзимы
клетки-хозяина. Все лекарства, убивающие паразита (бактерию, грибок,
простейшее), действуют через блокирование энзимы, необходимые для
жизни паразита. В случае с вирусами у нас отсутствует определенная
цель, и нам приходится проверять целый ряд химических или антибиотических
субстанций.
Культуры клеток представляют собой идеальное средство для поиска
противовирусных медикаментов. Методика заключается в добавлении
к инфицированной культуре потенциального антивирусного агента, при
этом концентрация его безвредна для клетки. Если антивирусный эффект
имеется, то культура не будет претерпевать характерных изменений
(зернистые изменения, округление клеток, образование бляшек). Если
предполагаемый антивирусный агент "убьет" вирус, то инфицированная
культура больше не сможет заражать другие культуры.
Было проведено множество экспериментов, некоторые - с частичным
успехом, при этом использовались аналоги52. Например,
многие аналоги аминокислот проходили проверку как противовирусные
медикаменты, в частности, аланин, триптофан, метионин и фенилаланин.
Также тестировались определенные пурины, пиримидины, нуклеозиды
и витамин В12. Это дало результаты, представляющие значительный
теоретический интерес, и прояснило некоторые особенности вирусного
метаболизма.
Производство противовирусных вакцин. Большинство противовирусных
вакцин делают при помощи культур клеток. Для производства вакцин
от оспы, бешенства и полиомиелита до сих пор используют живых животных,
но ведется работа над методами создания их в пробирке.
Вакцины из живых животных несут в себе постоянную угрозу: любое
животное может быть переносчиком другого вируса, представляющее
не меньшую опасность, чем искомый вирус, а то и большую - например,
канцерогенный вирус (здесь можно сделать сравнение с опасностями,
таящимися при ксенотрансплантации - пересадках от животного к человеку).
Для производства многочисленных вакцин, в том числе от полиомиелита
и краснухи (Almewax), уже использовали штамм диплоидных клеток,
WI-38, взятых из легких человеческого эмбриона, делала это Burroughs
Wellcome.
AM-57 можно также использовать для изоляции вирусов полиомиелита
и вируса Коксаки B.
Производство интерферона. Интерферон - это ингибитор
размножения вирусов. Это белок, который вырабатывают многие клетки,
выращиваемые в пробирке, клетки злокачественных опухолей и, возможно,
все клетки живых организмов. Производство интерферона стимулируют
главным образом вирусы. Интерфероны, которые незначительным образом
отличаются от антивирусов, стимулируются другими микроорганизмами
(Rickettsiae, Mycoplasma, грамотрицательные бактерии), бактериальными
токсинами, статолоном и геленином (полисахаридами определенных грибков
рода Penicillum), а также фитогемагглютинином (растительным соединением).
Производство интерферона запускают живые вирусы либо вирусы, инактивированные
жарой, ультрафиолетовыми лучами или формалином. Вирусы в зависимости
от вида обладают разной способностью индуцировать выработку интерферона:
миксовирусы, парамиксовирусы, арбовирусы (все РНК-вирусы) являются
хорошими индукторами, в то время как у большинства аденовирусов
эта способность отсутствует.
После производства клетками интерферон быстро переходит в кровоток.
Разные клетки (одного организма) производят интерферон в пробирке,
в разных количествах при соприкосновении с разными вирусами, и это
значит, что клетки, не производящие интерферон или не производящие
его в достаточном количестве при стимулировании одним вирусом, могут
начать его выработку при соприкосновении с другим.
Свойства интерферона. Антивирусная активность интерферона
неспецифическая, то есть, интерферон, индуцированный одним вирусом,
действует также и на другие вирусы. Интерферон, вырабатываемый одним
видом животных, имеет малое влияние на другие виды или вообще никакого53.
Иными словами, интерферон неспецифичен для вирусов, но он видоспецифический.
Интерферон еще не дал желанных терапевтических результатов (то есть,
подавление размножения вирусов в клетках, которые наводнены вирусом
или раковыми клетками), но производство его продолжается с целью
выявить, почему столь многообещающая в теории субстанция так разочаровывает
на практике.
Культура клеток - это один из самый подходящих способов производства
интерферона. Монослойные диплоидные культуры - оптимальный продукт,
который получают примерно через неделю после достижения культурой
конфлюентности54. Клетки, выращенные из свежих эксплантатов,
дают лучшие результаты по сравнению с клетками, которые прошли через
неоднократный пересев.
Вдобавок к диплоидным клеткам, хорошими производителями интерферона
являются некоторые постоянные (анэуплоидные) клеточные линии. В
отличие от ситуации с диплоидными клетками, количество вторичных
культур, получаемых от анэуплоидных клеток, не влияет на производство
интерферона. Это отражает в целом стабильный характер постоянных
клеточных линий. Те стимулы, которые индуцируют производство интерферона
в целостном организме, аналогичным образом функционируют в пробирке.
В пробирке, как и в целостном организме, лучшими пусковыми механизме
оказываются РНК-вирусы, в особенности миксовирусы, арбовирусы55
и парамиксовирусы, активные или инактивированные.
Методы выработки интерферона с использованием человеческих клеток
RSTC-2, зараженных Arbovirus chikungunya, описывает Фридман (Friedman,
1979).
Эксперименты на гормонах и железах внутренней секреции. Существует
два возможных подхода к изучению гормонов с использованием тканевых
и клеточных культур: (а) культура клеточных или тканевых эксплантатов
из эндокринных желез; (б) пробирочные тесты по выявлению действия
разных гормонов на ткани и клетки.
Культура эндокринных клеток. Это исключительно обширная
и в большой степени неизученная сфера. Желез внутренней секреции
множество, еще больше гормонов, а количество видов клеток, на которых
можно тестировать гормоны, огромно. Здесь мы выберем несколько наиболее
значимых открытий.
Неизмененные эндокринные клетки в пробирке секретируют те же гормоны,
что и в живом организме. Например, клетки гипофиза выделяют пролактин,
гормон роста (также известный как соматотропный гормон, СТГ) и адренокортикотропный
гормон (АКТГ). Вдобавок эти гормоны секретируются определенными
опухолями гипофиза. Одна такая опухоль сохраняла в пробирке свою
способность к выделению гормонов в течение 15 лет (Tashjian, 1979).
Кортизон стимулирует выработку гормона роста в культивируемых человеческих
аденомах гипофиза и в культурах нормального человеческого гипофиза
(Kohler и Bridson, 1973).
Ткань околощитовидной железы при выращивании в пробирке выделяет
паратгормон. Избыток кальция в питательной среде подавляет секрецию,
а низкий уровень кальция стимулирует ее, и то же самое происходит
в пробирке. Были выращены человеческие опухолевые клетки, производящие
кальцитонин, и результаты подтверждают, что высокий уровень кальция
в питательной среде стимулирует производство (Gantvik и Tashjian,
1973).
Другим примером служит клеточная линия Y1 из клеток, изолированных
из опухоли мышиной коры надпочечников. В 1964 года эта клеточная
линия продолжает секретировать стероидные гормоны, и она настолько
чувствительна к раздражению адренокортикотропным гормоном, что может
увеличить выработку гормона в 10 раз (Schimmer, 1979).
Сейчас, когда установлено главное, что эндокринные клетки вырабатывают
гормоны в пробирке, возможности их использования безграничны. В
культурах клеток мы можем наблюдать, как у клеток развиваются функции;
мы можем проверять, как они реагируют на разные раздражители, что
увеличивает секрецию, что ее уменьшает и как гормоны разных желез
взаимодействуют друг с другом. Мы можем выращивать органы со связанными
функциями в тандеме: например, культуры гипофиза и надпочечников
или культуры тимуса и половых желез или надпочечников и половых
желез. По мере разработки более совершенных технологий будет легко
воплотить в жизнь предположения, которые сегодня кажутся натянутыми.
Пробирочное тестирование действия гормонов на ткани и клетки.
Здесь, как показывают достижения прошлого, потенциал также огромен
(Fell 1965a):
• Простата, поддерживаемая в пробирке, охотно реагирует на шесть
гормонов. При отсутствии мужских гормонов ее эпителий становится
плоским, а секреция почти совсем прекращается; но при добавлении
в жидкость для перфузии тестостерона высота эпителия увеличивается,
и он начинает активно секретировать.
• Эпителий молочной железы быстро дегенерирует при отсутствии
половых гормонов, но он дольше выживает в присутствии гидрокортизона
и альдостерона, а при добавлении пролактина56 и соматотропина
(гормонов гипофиза) принимает вид железы, вырабатывающей молоко57.
• Костная ткань: присутствие паратгормона в жидкости для перфузии
вызывает резкое истощение ресурсов кальция и реабсорбцию костной
ткани, как и в целостном организме.
• Клетки HeLa: клетки постоянной клеточной линии HeLa более активно
пролиферируют, когда в питательную среду добавляют прогестерон
или эстрадиол или их смесь. С другой стороны, тестостерон имеет
подавляющее действие. Вместе с тем, одновременное присутствие
эстрадиола и прогестерона сводит его к нулю. Таким образом, хотя
линия HeLa является одной из старейших постоянных клеточных линий,
ее клетки все же "помнят" свое происхождение в эпителии
шейки матки и в присутствии гормонов ведут себя соответствующим
образом (Hiroyoshi Endo и другие, 1965).
• Клетки HTC (Hepatoma Tissue Culture): глюкокортикоиды (гормоны
надпочечников) индуцируют в клетках HTC58 синтез следующих ферментов:
тирозинаминотрансферазы, орнитиндекарбоксилазы и глутаминсинтетазы.
Они снижают активность фосфоэстеразы и энзима, активизирующего
плазминоген.
• Миокардиальные волокна: их можно вырастить из эксплантатов человеческих
и животных эмбрионов. Эти волокна сохраняют в культуре свою характерную
способность к сокращению. Разные субстанции действуют на волокна
в пробирке, увеличивая или уменьшая их способность к сокращению.
Например, при концентрации 10-6 М ацетилхолин60 уменьшает
сокращаемость, а сердечные гликозиды (особенно дигиталис и строфантин)61
повышают ее.
Токсикологические эксперименты. Субстанции, предполагающиеся
для использования человеком, должны пройти токсикологическое тестирование
на человеческих культурах клеток и тканей. Проверка их на культурах
животных клеток была бы столь же ошибочна, как и экспериментирование
на живых животных с абсурдной целью перенести результаты на человека.
Кроме того, выращивать человеческие клетки столь же просто, как
и культивировать животные клетки: хирурги могут обеспечить любой
вид свежеудаленных тканей, а в гинекологических клиниках доступны
эмбрионы разного возраста.
Создание правильных условий скорее для человеческой, а не для животной
культуры клеток и тканей - это просто вопрос организации. Нет смысла
выращивать животные клетки и ткани, исключение составляет только
отработка методик. Но их можно более эффективно отрабатывать на
человеческих эксплантатах и даже при этом открыть некоторые технические
усовершенствования, присущие именно человеческим тканям.
Может возникнуть возражение, что химические субстанции на живом
животном проходят через ряд изменений (особенно в печени), и по
прибытии в нужные клетки уже не представляют собой ту субстанцию,
которая вводилась изначально; результаты такого положения дел очевидны,
когда вещество проходит тестирование для потенциального использования
как лекарство. Это правда, но правда и то, что мы никогда не можем
знать заранее, будет ли медикамент усваиваться у лабораторных животных
так же, как у человека. Поэтому результаты экспериментов на животных
не только вводят в заблуждение, но и опасны - все, что вводит в
заблуждение, представляет потенциальную опасность.
С другой стороны, изменения, происходящие в человеческих органах,
особенно в печени, почти для всех химических групп, к которым принадлежат
разные потенциально терапевтические вещества, известны. Поэтому
есть возможность тестировать не саму субстанцию, а ее метаболиты
(то есть, продукты этих изменений), а поскольку токсикологические
тесты можно выполнять на большом количестве разных клеток и даже
на целых сложных тканях, то можно получить надежные и легко воспроизводимые
результаты.
Сравнивать такие результаты с полученными на животных неуместно
по следующим причинам:
1. Результаты токсикологических тестов на культурах человеческих
клеток могут быть незавершенными, но они, безусловно, применимы
к человеку.
2. С другой стороны, результаты токсикологических тестов на животных
всесторонни, то они применимы только к данному виду животных. Иногда,
согласно статистической вероятности, они совпадают с результатами
для человека, но мы можем узнать это только эмпирически, то есть,
после проверки на людях.
Опыты с мутагенными, тератогенными и онкогенными веществами.
Проблему мутагенных и тератогенных62 субстанций признавали
уже долгое время, но о ней мало задумывались до 1961 года, когда
общественность о ней узнала при трагических обстоятельствах, в результате
трагедии с талидомидом. Но талидомид преподнес нам один урок - тестировать
на тератогенность при помощи животных абсолютно бесполезно.
Когда речь идет о тератогенности, то мы склонны думать только о
физических деформациях и не замечаем другой достаточно тревожной
проблемы: сколько детей, которые при рождении выглядят нормальными,
но в школьном возрасте кажутся "не очень умными" или отстраненными
или гиперактивными, получили эти дефекты из-за повреждений мозга,
возникших до рождения?
Нам надо помнить очень важный, но оставляемый без внимания факт.
Говорят, что большинство субстанций (и вирусов) оказывают тератогенное
воздействие в первом триместре беременности, то есть, в период формирования
внутренних органов. Но мозг продолжает "формироваться"
не только в течение всего эмбрионального периода, но и на протяжении
длительное времени после рождения, 12 или больше лет. Следовательно,
нельзя исключать вероятность того, что вещества, потребленные матерью
после первого триместра, могут повлиять на развитие мозга.
Тератогенность и канцерогенность тесно взаимосвязаны: множество
тератогенных субстанций оказывались канцерогенными, и, наоборот,
все канцерогенные субстанции также тератогенны. Культуры клеток
и тканей могут относительно легко показать канцерогенную способность
вещества. Но если оно канцерогенно, то оно почти наверняка и тератогенно;
стало быть, необходимо позаботиться о том, чтобы предотвратить их
прием, даже в минимальном количестве, беременными женщинами.
Количество тератогенных для человека субстанций огромно (см. также
главу 5). Ниже мы их перечислим по категориям (но каждая категория
содержит десятки тератогенов):
• Общие и местные анестетики воздействуют на эмбрион не только
через мать, но и через мужскую сперму (Sullivan, 1979).
• Анальгетики: кодеин (Saxen и Saxen, 1975), аспирин и другие
салицилаты (McNeal, 1973; Richards, 1972), фенацетин и парацетамол
(Schenkel и Vorherr, 1974).
• Противосудорожные средства: фенобарбитон, фенитоин, примидон,
троксидон, фенетурид, метилфенилбарбитон и диазепам (Hill, 1973;
Lowe, 1973; Speidel и Meadows, 1972).
• Лекарства от рака - наиболее сильные тератогены для человека
обнаружены среди следующих: алкилирующие агенты, цитотоксические
антибиотики и стероиды. Риск врожденных уродств у детей женщин,
которые принимали алкалирующие агенты, таков: 1 на 14 для бусульфана,
1 на 3 для хлорамбуцила, 1 на 4 для азотистого иприта (Schardein,
1976). Некоторые из антиметаболитов, безусловно, тератогенны для
человека, например, антагонисты фолиевой кислоты (вроде аминоптерина),
антагонисты никотинамида, пурины и пиримидины, метотрексат, 6-азауридин,
азатиоприн и циклофосфамид (Scott, 1977).
• Антикоагулянты: кумарины (такие как зоокумарин) обладают тератогенными
свойствами (Pettifor и Benson, 1975).
• Карбонат лития: эта соль, используемая при лечении маниакально-депрессивного
синдрома, тератогенна (Schou и другие, 1973).
• Антибиотики: аминогликозиды, такие как стрептомицин, дигидрострептомицин,
канамицин и гентамицин повреждают акустический нерв и вызывают
разные степени глухоты (Ganguin и Rempt, 1970). Тетрациклин вызывает
изменения в костях и зубах (Greene, 1976).
• Противомалярийные средства: хинидин имеет тератогенное действие
при потреблении в дозах, которые применяются для приостановки
развития болезни (2-4 г) (Sullivan, 1979).
• Гормоны: преднизолон, принимаемый во время беременности, в большом
проценте случаев вызывает смерть плода и врожденные уродства (Warrel
и Taylor, 1968). Синтетические гормоны, такие как этистерон и
норэтистерон маскулинизируют эмбрионы женского пола, как и тестостерон
(Cahen, 1966). Оральные контрацептивы, в которых комбинируются
эстроген и прогестроген, и которые женщина принимает в первые
недели беременности, еще не зная о ней, повреждают эмбрион, особенно
сердце (Heinonen и другие, 1977; Levy и другие, 1973, Nora и Nora,
1973).
Тератогенное действие всех этих лекарств было выявлено клиническим
путем, когда вред стал уже очевидным. Но тысяч трагедий удалось
бы избежать, если бы ученые вместо того, чтобы проводить тесты на
тератогенность на животных, признали и использовали связь между
следующими фактами:
1. Легкость, с которой можно выявить канцерогенность субстанции
через тестирование на культуре клеток (при необходимости используя
большое количество мезенхимных и эпителиальных клеточных линий).
2. Тот факт, что, возможно все канцерогенные субстанции также тератогенны.
Таким образом, доказанная канцерогенность означает доказанную (или
очень вероятную) тератогенность.
Хочется верить, что в будущем эти факты станут больше приниматься
во внимание.
Тесты на тератогенность можно также выполнять с помощью культур
бактерий (тест Эймса - см. главу 16).
Иммунологические исследования. В живом организме иммуноглобулины
(антитела) вырабатываются лимфоцитами. В пробирке лимфоциты продолжают
свою функцию, которая заключается в производстве разных типов иммуноглобулинов.
Существует около 500 лимфатических клеточных линий, которые спустя
много лет после эксплантации продолжают производить иммуноглобулины
(Matsuoka, 1973). Иммуноглобулины, которые вырабатываются в пробирке,
относят к тому или иному типу после введения их в реакцию с соответствующим
антигеном при помощи иммунофлюоресценции или иммуноэлектрофореза.
Исследование энзимопатий. Энзимопатии - это болезни, которые
возникают вследствие изменений в одном энзиме или более, либо из-за
их отсутствия, и они могут быть как наследственными, так и приобретенными63.
Они могут влиять на азотистые субстанции, углеводы, липиды или пигменты.
Культура клеток вкупе с клиническими наблюдениями - это один их
самых эффективных методов изучения энзимопатий. Наследственные нарушения,
связанные с энзимами, можно изучать с помощью культур клеток, которые
получают от амниотической жидкости или абортированных эмбрионов.
Культуры, в которых присутствуют практически все разные типы клеток
организма, можно изготовить из абортированных эмбрионов. Таким образом,
при правильном использовании каждый эмбрион представляет собой огромный
экспериментальный ресурс. Из них можно получить
огромное количество энзимопатий и метаболических нарушений.
Вот некоторые общие наблюдения, сделанные на них:
1. При большинстве энзиматических нарушений дефект присутствует
во всех или в большинстве клеток организма. Культуры клеток позволяют
наблюдать различия в том, как дефекты, связанные с энзимами воздействуют
на разные клетки.
2. Врожденные нарушения, связанные с энзимами, обеспечивают естественные
экспериментальные модели, когда мы можем наблюдать результаты отсутствия
определенного вещества в организме. Другие случаи предлагают дополнительные
модели, потому что отсутствие определенных энзим заставляет вещества
накапливаться в клетках и кишечных жидкостях. Изучение в пробирке
природы этих субстанций и их вторичное влияние на клеточный метаболизм
обеспечивает такую точность, которая при любом другом методе была
бы невозможна.
3. Некоторые нарушения, связанные с энзимами, затрагивают не все
органы, а только один-два, особенно печень и почки. Дисфункция этих
органов, задача которых состоит в очищении организма от разных субстанций,
имеет последствия для всех остальных клеток, например, накопление
не удаленных веществ (болезнь накопления). Следовательно, даже при
энзимопатиях определенных органов важную информацию можно получить
посредством изучения в пробирке всех тканей и органов, а не только
тех, в которых кроется энзиматический дефект.
Обзор литературы показывает, что культура клеток до сих пор используется
мало, хотя она представляет самый многообещающий путь к пониманию
не только метаболических нарушений, связанных с энзимами, но и также
многих особенностей нормального метаболизма.
Примечания
1. Латинский термин "ин витро" (в пробирке) возник
из-за того, что несколько десятилетий назад контейнеры для культур
клеток и тканей (а еще раньше - для бактерий, грибков и простейших)
делались из стекла (чашки Петри, колбы Ру и т.д.). Считается,
что основателем современной культуры тканей и клеток стал американец
Росс Гренвилль Харрисон (Ross Grenville Harrison), который при
помощи нервной ткани, взятой у лягушки и помещенной в каплю лимфы
того же самого животного, увидел, как нервное волокно (неврит)
развивается из тела нервной клетки. Но еще раньше, в промежутке
между 1880 и 1885 В. Ру в течение нескольких дней поддерживал
куриные эмбрионы живыми в физиологическом растворе (Roux, 1885),
а в 1887 году Ф. Арнольд культивирует лимфоциты амфибий (Arnold,
1887). Данные эксперименты скорее являются примерами поддержания
жизнедеятельности ин витро - в пробирке, а не выращивания в пробирке.
Первым человеком, который смог выращивать большое количество клеток
в пробирке, стал Алексис Каррель (Alexis Carrel), который поддерживал
жизнь и активность клеточной линии в течение 34 лет (Carrel 1923).
2. При температуре выше 42 градусов клетки умирают. При температуре
около 4-5 градусов клетки выживают, но не размножаются.
3. Соматические клетки - диплоидные. Это означает, что их хромосомы
расположены по парам. У человека соматические клетки имеют 46
хромосом, образуя 23 пары. В добавление к соматическим клеткам,
организм содержит половые клетки, яйцеклетки и сперматозоиды,
и они называются гаплоидными (от греческого "простой"),
то есть, они обладают 23 простыми (непарными) хромосомами. При
соединении две гаплоидные половые клетки воспроизводят новую диплоидную
клетку, в которой каждая пара хромосом развивается из мужской
хромосомы, из сперматозоида, и из женской хромосомы, из яйцеклетки.
Эуплоидный (от греческого "хорошо сделанный") означает
обеспеченный нормальным набором хромосом. "Анэуплоидный"
(от греческого "без" + "эуплоидный") - противоположность
эуплоидному: анэуплоидная клетка имеет ненормальное (слишком большое
или малое) количество хромосом. Синоним анэуплоидному - гетероплоидный.
4. Колония - это объединение некоторого количества однотипных
клеток. Оно имеет место, когда две клетки, возникшие в результате
деления, остаются соединенными, пока не сформируют колонию. Считается,
что первые многоклеточные возникли таким образом. Впоследствии
некоторые клетки колонии стали дифференцированными и обрели особенные
формы, полезные для сообщества клеток.
5. Кажется, что выживание бактерий тесно связано с источниками
энергии и материи. Если эти источники не истощаются, то их жизнь
продолжается бесконечно. Вместе с тем, мы обнаруживаем, что сообществом
бактерий, или колонией, правят законы, и они сходны с теми, которые
относятся к многоклеточным структурам ин витро: В определенный
момент их развитие прекращается, даже когда индивидуальные клетки,
образующие колонию, живы и способны на продолжительное существование.
Это прекращение роста связано не с истощением питательных веществ
в среде и не с накоплением токсичных отходов. В чем же тогда может
быть причина? Считается, что колониях могут иметь место секреции,
которые оказывают биорегулирующее воздействие на рост и пролиферацию
бактерий.
6. Максимальный срок выживания человеческих диплоидных клеток
доходит до 50-го поколения (Hayflick, 1965; Hayflick и Moorhead,
1961). К этому времени каждая клетка в колонии генерирует 250
клеток. Затем колония умирает либо превращается в постоянную анэуплоидную
линию.
7. Культуру тканей также называют культурой органов, но это путающий
термин, который предполагает возможность выращивания в питательной
среде целого органа, такого как сердце, печень или селезенка.
Термин "культура ткани" более правилен, потому что действительно
ин витро можно получить куски ткани, сходные с теми, от которых
они происходят. Эмбриональные ткани одинаково развиваются ин витро
и в живом организме.
8. Основной источник энергии для клеток ин витро - глюкоза, но
они также способны получать энергию из деаминизации аминокислот.
9. Потребность клеток, выращиваемых ин витро, в аминокислотах,
которые считаются необходимыми для питания всего организма (аргинин,
цистин, глутамин, гистидин, тирозин, изолейцин, лейцин, лизин,
метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин) наводит на
мысль, что в большинстве клеток может отсутствовать энзиматическая
система, необходимая для синтеза этих аминокислот. Определенным
клеткам требуется серин. Неопластическим клеткам, особенно из
определенных лейкемических линий, требуется аспарагин. Необходимы
также фолиевая кислота и витамин В12: эти два компонента и вышеперечисленные
аминокислоты присутствуют в свежей сыворотке.
10. Особенно склонны заражать культуры клеток микоплазмы, потому
что они устойчивы к большинству антибиотиков. Более того, их присутствие
может остаться незамеченным, потому что они, как правило, не изменяют
внешний вид культуры. Микоплазмы серьезно изменяют клетки, при
этом одним из наиболее распространенным заражающим агентом является
Mycoplasma pilmonis.
11. Фетуин - это основной глобулин в эмбриональной крови разных
животных (Pedersen, 1944). Человеческая сыворотка содержит альфа-глобулин,
который отличается от фетуина, но имеет сходные характеристики
(Holmes, 1967).
12. Вещество, которое заставляет клетки прикрепляться к стенкам
контейнера (или другим основам, таким как микросферы, о них речь
пойдет ниже), - это протеин, обладающий большой молекулярной массой
и известный как крупная внешняя трансформационная субстанция (LETS);
также его называют фибронектин или протеин внеклеточного матрикса.
13. До тех пор, пока клетки остаются подвешенными в жидкой среде,
они имеют круглую форму. Когда они прикрепляются к стенкам сосуда,
то какое-то время остаются круглыми, а потом медленно начинают
становиться плоскими, так что площадь, доступная для закрепления,
существенно увеличивается.
14. Стационарная культура клеток - та, в которой клетки хоть и
живы, но перестали делиться.
15. Клонирование - это развитие колонии из одной "родительской"
клетки. Клон - это "чистая клеточная линия", в которой
все клетки, происходящие из единой клетки, имеют идентичную организацию
генома. Чтобы в культуре произошло спонтанное клонирование, клеткам,
прежде чем они начнут размножаться, требуется прикрепиться к стенкам
сосуда, и при этом каждая должна быть отделена от другой. Отделения
можно добиться, если добавить в смесь сыворотки или смесь сывороток
разных животных, в подходящих пропорциях (Ham и Sattler, 1968;
Ham и другие, 1970). Клонирования можно добиться и другими способами.
16. Из внешних факторов наиболее отрицательное воздействие на
жизнеспособность клеток имеют понижение кислородного давления,
понижение pH (окисление) и истощение запасов глюкозы. Те же факторы
снижают жизнеспособность клеток в целостном организме.
17. Культуры фибробластов можно получить из человеческой кожи
без дезагрегирования ткани: фибробласты по краям куска кожи, помещенного
в питательного среду, развиваются быстро и расширяются, как масляное
пятно. Первые эксперименты на культуре клеток проводились с использованием
очень маленьких эксплантатов, то есть, без дезагрегирования.
18. Соль EDTA - это динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной
кислоты.
19. Например, в случае кожного эксплантата у нас будут все типы
эпидермических клеток (клетки базального, гранулезного и рогового
слоев), все типы дермальных клеток и клетки кровяных и лимфатических
сосудов (фибробласты, фиброциты, гистиоциты, эндотелиальные клетки,
перициты, гладкие мышечные клетки, мастоциты и клетки периферической
нервной системы). Помимо них, у нас будут кровяные клетки: красные
кровяные тельца, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, лимфоциты и
моноциты.
20. Не все клетки способны к делению. Например, из эпидермических
клеток делятся только базальные.
21. Так как культуры диплоидных клеток обычно растут, прикрепившись
к стенкам культурального сосуда, их перед перемещением в другой
сосуд необходимо отделить. Для этого используются энзимы (проназа,
трипсин, коллагеназа). После отделения клетки вновь обретают сферическую
форму. Но после прикрепления к стенкам нового контейнера они опять
становятся сплющенными и по прошествии короткого времени возобновляют
размножение. Перемещение в новый сосуд обычно делают тогда, когда
клеточная колония оказывается настолько перенаселенной, что происходит
подавление дальнейшего роста.
22. Фибробласты относятся к тем человеческим клеткам, которые
поддерживают целостность своих хромосом и основные биохимические
функции в течение нескольких месяцев, и их легко получить из эксплантатов
кожи. С использованием этих клеток можно исследовать физиологию
человеческих клеток.
23. Одной из первых постоянных клеточных линий, полученных в лаборатории,
стала линия HeLa. Эти клетки изолировали у больной, некоей Генриетты
Лаче (Henrietta Lache), страдавшей эпидермоидным раком шейки матки.
Клетки линии HeLa содержат от 50 до 350 хромосом вместо нормальных
для человека 46. Эти клетки способствуют росту многих вирусов.
Другой очень старой постоянной клеточной линией является Hep-2,
полученная из эпителиальных клеток человека.
24. Для изучения культур клеток, прикрепляющихся к стенкам сосудов,
были разработаны микроскопы, в которых линзы лежат под объектом,
а свет падает сверху.
25. Некоторые из этих субстанций известны, например, CO2, пируват
и некоторые заменимые аминокислоты, особенно серин.
26. Когда слой клеток закрывает всю стенку контейнера, то говорят,
что культура достигла конфлюэнции ("течения вместе").
После этого рост культуры стремительно замедляется, и на смену
ему приходит застой.
27. Продолжительность периода ожидания зависит от вида клеток,
плотности посева, состава питательной среды и любых манипуляций
с клеткой, будь то механические или ферментативные действия.
28. Соотношение живых и мертвых клеток в культуре можно подсчитать
посредством обработки культуры раствором трипанового синего -
он окрашивает живые клетки, но не мертвые.
29. Прогерия (или синдром Хатчинсона-Гилфорда) это аутосоматическое
заболевание, вызванное рецессивными генами и характеризующееся
преждевременным старением (Hilford, 1904; Hutchinson, 1886). Даже
в первые годы жизни волосы и зубы растут медленно. Максимальный
рост больного составляет 130 см, а внешность у него, как у старого
человека. Смерть обычно наступает к 25-летнему возрасту. Синдром
Вернера, другое аутосомное рецессивное наследственное заболевание,
характеризуется физическим недоразвитием (средний рост около 140
см), отсутствием полового созревания, сединой и облысением к 20
годам. В возрасте от 35 до 40 лет больной имеет внешность 80-летнего
или даже более старого человека. Смерть наступает примерно в 47
лет (Werner, 1904).
30. Это обычно происходит после достижения клеточной популяцией
конфлюэнции. Но некоторые культуры, особенно постоянные клеточные
линии, продолжают свой логарифмический рост даже после конфлюэнции
(при условии, что среда по-прежнему обеспечивает необходимое питание).
31. "Контактное подавление движения клеток" или "контактное
подавление размножения клеток" (Abercrombie и Heaysman, 1954)
или "зависящее от плотности подавление роста".
32. Цитоплазмическая мембрана окутывает всю клетку. Но внутри
клетки обнаружены другие мембраны: митохондриальные и те, которые
формируют ретикулярный аппарат, сложную сеть каналов.
33. Псевдоподия (ложноножка) - это вырост, который образуется
по краям определенных клеток, когда они движутся в определенном
направлении. Сначала появляется маленький выступ, но постепенно
он становится больше, пока сначала цитоплазма, а затем ядро не
переходят в него полностью. По завершении процесса клетка переходит
с прежнего местоположения в ложноножку. Движение с помощью ложноножки
очень заметно у амеб и нейтрофильных лейкоцитов в крови.
34. Это верно для клеток, которые развиваются в монослое, то есть,
для прикрепляющихся к стенкам сосуда.
35. Прикрепление не означает, что два края клеток находятся в
контакте - электронный микроскоп выявил пространство между ними
примерно в 100 Å (Å - одна тысячная микрона, то есть, 10-8 см).
36. Ван-дер-вальсовы силы устанавливаются между атомами двух соседних
молекул. Это неполярные силы, то есть, не зависящие от электрического
контакта.
37. Гипотезу о том, что "ум" (и, стало быть, воля) не
сконцентрирован в мозгу, а распределен по клеткам многоклеточных
организмов, впервые предложил философ Альберт Норд Вайтхед (Albert
North Whitehead, 1861-1947).
38. Впервые этот факт продемонстрировали с помощью морской губки.
Губку разрушили, чтобы получить отдельные подвешенные клетки.
Когда им дали возможность обустраиваться, то они вновь встали
в форме губки.
39. Кожа имеет два слоя: эпидермис и дерму. Эпидермис - эпителиальная
ткань, а дермис - это мезенхимная ткань. Кровяные и лимфатические
сосуды были обнаружены в дерме, эпидермис получает питание от
интерстициальной жидкости, которая просачивается из кровяных и
лимфатических сосудов и проникает между эпителиальными клетками,
неся к ним питательные вещества и кислород. Таким образом, эпидермис
не может жить без дермы.
40. Базальная мембрана - это тонкая (1-2 микрона) гомогенная структура,
которая отделяет дерму от эпидермиса. Базальные эпидермальные
клетки (то есть, те, которые делятся наиболее активно) лежат на
базальной мембране. Субстанция, которая образует базальную мембрану,
секретируется главным образом эпителиальными клетками, но также
отчасти и мезенхимными клетками дермы, лежащей внизу.
41. Эта базальная мембрана", возможно, неполная из-за отсутствия
той части, которая нормальным образом вырабатывается мезенхимными
клетками.
42. В живом организме первым признаком того, что местная опухоль
превращается в инвазивную, является разрыв базальной мембраны
раковыми клетками и их проникновение в подлежащую мезенхиму.
43. Самые лучшие ассоциативно-клеточные культуры можно получить
через использование родства между эпителием и соответствующей
мезенхимой. Таким образом, для клеток поджелудочной железы следует
использовать фибробласты, полученные из поджелудочной стромы;
для клеток молочной железы - фибробласты из молочной стромы; для
эпидермиса - кожные фибробласты.
44. Этот случай представляет собой очередной пример вивисекционистской
традиции проводить на животных тканях эксперименты, которые можно
было бы с той же легкостью сделать на человеческой ткани. Преимущество
прямого метода заключалось бы в избегании странных гибридов (типа
бык-мышь), которые вряд ли способствуют успеху эксперимента.
45. Размер вирусов варьируется от 20 до 200 нанометров (.1 нанометр
= 1/1000 микрона, то есть, одна миллионная часть миллиметра).
Они подразделяются на два вида: вирусы ДНК и РНК.
46. Некоторые вирусы атакуют только клетки мезенхимного происхождения,
другие - только эпителиального. Патогенные для человека вирусы
классифицируются следующим образом:
| |
Риновирус |
|
| а) Пикорнавирус |
|
Полиомавирус |
| |
Энтеровирус |
вирус Коксаки |
| |
|
Эховирус |
б) реовирус
в) арбовирус
г) миксовирус
д) парамиксовирус
е) вирус бешенства
ж) аденовирус
з) вирус герпеса
и) поксвирус
к) вирусы, не подпадающие под классификацию
47. Онкогенные вирусы - это те, которые вызывают рост злокачественных
опухолей у определенных животных. В случае с людьми существует
только один вирус, которые (почти точно) становится причиной злокачественных
опухолей: вирус Эпштейна-Барра, вызывающий лимфому Беркитта, данная
болезнь часто встречается в Центральной Африке, а во всех остальных
частях мира заболеваемостью ею единична. Вирус Эпштейна-Барра
также является причиной инфекционного мононуклеоза.
48. "Репликация" - это термин, который употребляется
применительно к вирусам; он соответствует терминам "воспроизводство"
и "размножение" для бактерий, грибов, клеток одноклеточных
и многоклеточных организмов.
49. Геном вируса - это та часть ДНК (в вирусах ДНК) или РНК (в
вирусах РНК), которая содержит генетическую информацию. Вирусный
геном не может воспроизводить сам себя (в то время как хромосомы
клеток и бактерий могут), но он "переписывает" генетическую
информацию на геном клетки-хозяина, которая обеспечивает материал
для построения новых вирусных частиц (вирионов).
50. Клетки, в которых вирусы воспроизводятся наиболее активно,
носят название пермиссивных.
51. Соединения тиола - это те, которые содержат группу -SO2-OH
(сульфоксиловую группу).
52. Аналоги - это субстанции, которые структурально напоминают
другую субстанцию (которая может быть необходима для жизни организма),
но не обладают всеми ее свойствами. Когда необходимую субстанцию
заменяет аналог, то может оказаться заблокированным целый метаболический
путь, что имеет серьезные либо фатальные последствия для всего
организма.
53. Вследствие вышеупомянутых свойств интерферон ведет себя по
отношению к антителам обратно: (а) антитела специфичны для вирусов
и других микроорганизмов, важных для их производства" и (б)
антитело, вырабатываемое одним видом, активно также и для другого
вида. Следовательно, вирусные антитела специфичны для вида и неспецифичны
для вида.
54. То есть, через неделю после того, как вся поверхность культурального
сосуда оказывается покрыта монослоем клеток.
55. Одним из наиболее мощных арбовирусов является чикунгунья.
36. Пролактин также носит название маммотропин. Его секретирует
передняя доля гипофиза.
57. Клетки молочной железы при культивировании ин витро производят
молочные белки альфа-лакто-глобулин и альфа-лакто-альбумин (Larsen
и Andrsen, 1973).
58. Клетки HTC (Hepatoma Tissue Culture) происходят от опухоли
крысиной печени (гепатомы).
59. Плазминоген - это предшественник плазмина, активной части
протеолитического энзима, функция которого состоит в расщеплении
фибрина (фибринолиз).
60. 10-4 = одна миллионная часть грамм-молекулы ацетилхолина,
или 0,124 мг, потому что молекулярная масса ацетилхолина равняется
124.
61. Сердечные гликозиды - это не гормоны, а лекарства растительного
происхождения. Мы их включили в этот раздел из-за тесной взаимосвязи
с обсуждаемой темой.
62. Мутаген - это субстанция, которая изменяет генетический код
клетки, в то время как тератоген - это субстанция, вызывающая
деформации. Но поскольку деформации обычно возникают вследствие
изменений генетического кода, эти два термина взаимозаменяемы.
63. Разные токсины могут вызвать изменения в одном или нескольких
энзимах, становясь, таким образом, причиной приобретенного метаболического
нарушения. Самыми распространенными являются тяжелые металлы (свинец,
ртуть, золото, серебро, висмут, медь, кобальт, кадмий, вольфрам,
осмий), соли урана и эндогенные (развивающиеся внутри организма)
токсины, которые возникают вследствие обширных ожогов и гангрен.
16.
Другие методы биохимических исследований
Эпидемиология, компьютерные модели, культуры
клеток и тканей ин витро являются тремя основными методами современных
биомедицинских исследований. Но помимо них (и отчасти благодаря
ним), имеется множество других методов, дающих новую надежду: надежду
на то, что биомедицинские исследования уже находятся на пути к радикальному
обновлению. Давайте посмотрим на несколько наиболее важных.
Тест Эймса на мутагенность
В тесте Эймса (Ames, 1971; Ames и другие, 1973) тестируемую субстанцию
помещают в питательную среду, которая способствует росту Salmonella
typhimurium1, бактерии с известным генетическим кодом. Получается
мутантный штамм бактерий, не требующих гистидина для роста2. Если
субстанция мутагенная, то она восстанавливает потребность бактерий
в гистидине. Хотя само вещество может не быть мутагенным (и, следовательно,
не канцерогенным), оно, вероятно, станет таковым вследствие изменений,
происходящих с ним в организме, особенно в печени. Поэтому в среду
добавляют экстракт свежей печени, при этом делается предположение,
что ферменты печени действуют ин витро так же, как в целом организме.
Тест Эймса имеет множество преимуществ:
• скорость, благодаря быстрому росту той сальмонеллы (и бактерий
в целом);
• простота, как в случае с большинством бактериологических методов;
• низкая стоимость;
• возможность тестирования большого количества субстанций одновременно
• воспроизводимость (в одной и той же лаборатории или где-то еще),
при этом единственным условием является использование одной и той
же линии Salmonella typhimurium3.
К середине 1970-х годов с помощью этого метода было удовлетворительно
протестировано 300 субстанций (McCann и другие, 1975). До сих пор
имеется огромное количество возможностей для совершенствования этого
теста, через использование иных бактерий, нежели Salmonella typhimurium.
При должной тщательности его использование можно распространить
на грибки и одноклеточные4. Его оценили как более точный при использовании
Salmonella typhimurium, обработанной плазмидой pKM-1015. Когда тест
Эймса используется с такой модификацией для валидационных целей
применительно к субстанциям с доказанной канцерогенностью (но для
какого животного?), то он может претендовать на точность в 80-90%,
в то время как изначальный метод без использования плазмиды дает
только 60-65%.
Критическая оценка теста Эймса заставляет усомниться в том, правомерно
ли экстраполировать его результаты на человеческую патологию, особенно
в том, что касается использования печеночного экстракта для усвоения
определенных субстанций ин витро.
Тест Драйза
Раздражители могут попасть в глаз случайно или же быть помещены
туда с лечебными целями. Вещества, которые чаще всего нечаянно соприкасаются
с глазом,- это мыло и шампуни, краски для волос, косметика для глаз
и крем для лица. Основные офтальмологические лекарства - это противоотечные
и антибактериальные средства. Нам надо удостовериться, что ни одно
из данных веществ не вызовет раздражения конъюнктивальной мембраны,
или же что всякое раздражение будет краткосрочным и без вредных
последствий.
В 1944 году Драйз (Draize и другие) предложил тест на целом организме
с использованием кроликов, чьи глаза особенно чувствительны, а в
наибольшей степени - к щелочным субстанциям6. Тестируемую субстанцию
закапывают в нижнее веко одного глаза, при этом второй глаз животного
становится контрольным. За результатами следят с определенной периодичностью
в течение семи дней. Оценку делают на основе того, теряет ли роговица
прозрачность, есть ли воспаление радужной оболочки и конъюнктивы,
при этом степень воспаления измеряют по шкале от 0 до 110. Десятилетия
использования этого теста показали, что:
1. Это примитивный и ненадежный тест, который показывает различия
только между раздражающими и нераздражающими веществами, без промежуточных
градаций (Ballantyne и Swanston, 1977);
2. Данный метод не обладает легкой воспроизводимостью и дает большой
разброс результатов даже в одной и той же лаборатории, не говоря
уж о разных.
В ходе исследования, которое проводилось в 24 американских лабораториях
с использованием этоксилаурилового спирта, одна лаборатория дала
ему оценку 7 по шкале раздражимости, а другая - 79 (Thompson, 1979).
Это значит, что первая лаборатория оценила субстанцию как практически
безвредную, а другая - как сильный раздражитель.
Поскольку метод, который дает столь разнородные результаты, неприемлем,
были разработаны более надежные методы. Одним из них является метод
Симонза.
Метод Симонза
Данный метод, предложенный Симонзом (Simons, 1980), использует клетки
мышиной линии L-929. Клетки помещают в минимальную поддерживающую
среду, где содержится глутамин и заменимые аминокислоты в комбинации
с 10% телячьей сыворотки. После 24 часов добавляют тестируемую субстанцию.
Еще через 24 часа те клетки, которые плавают на поверхности среды
(то есть, клетки, которые умерли и в результате отделились от стенок
сосуда), перемещают в другой сосуд, содержащий изотонический раствор.
Те клетки, которые все еще держатся за стены (живые клетки), отделяют
от стенок при помощи трипсинового раствора7 и добавляют к мертвым.
Таким образом, получают один сосуд с живыми и мертвыми клетками,
и их окрашивают трипановым синим8. Под микроскопом подсчитывают
соотношение живых (окрашенных в синий) и мертвых (неокрашенных)
клеток, а результаты оценивают по шкале от 0 до 110, как и в тесте
Драйза.
Инвитровый метод Симонза дает более воспроизводимые результаты,
чем тест Драйза. Он опять же он только отделяет раздражители от
не раздражителей, но не дает возможности степень раздражения, вызываемого
субстанцией. Тем не менее, он открыл новую дорогу исследований,
которые позволяют отказаться от теста Драйза вследствие его неточности
и невоспроизводимости. Более того, метод Симонза имеет богатый потенциал
для улучшения, а тест Драйза - нет, и на это указывает тот факт,
что он остается неизменным более 50 лет. Наконец, тест Симонза,
как и все инвитровые тесты, дешевле опытов на целом организме.
Метод Беттеро
Данный метод являет собой один из важнейших примеров того, как можно
заменит ненаучный метод, вроде теста Драйза, на научный,
иными словами, точный и воспроизводимый.
Тест проводят на человеческих слезах, которые имеют функцию растворять
и удалять раздражающие субстанции, соприкасающиеся с конъюнктивой.
В нормальных условиях слезы содержат только следы химических медиаторов
раздражения, но любые раздражающие субстанции и специфические аллергены
(у аллергиков) вызывают стремительный рост вышеназванных факторов.
Данный тест заключается в демонстрации такого роста после применения
тестируемой субстанции к человеческой конъюнктиве. Чаще всего используют
химический медиатор гистамин, но можно использовать и другие, такие
как серотонин и лейкотриен 4.
В нижнее веко помещают 50 микролитров солевого раствора, содержащего
определенное количество гистамина и флуорескамина. Через 10 секунд
20 мл получившейся жидкости (смесь слез с раствором гистамина и
флуорескамина) берут специальной пипеткой. Затем процедуру повторяют,
для этого исследуемый раствор вторично наносят на глаз. Если раствор
является раздражителем, то уровень гистамина после второго применения
будет выше, чем после первого.
Тест Бернеро имеет важную особенность, заключающуюся в "индивидуализации",
то есть, его можно выполнять на людях, которые жалуются на раздражение
конъюнктивы от субстанций, не имеющих такого воздействия на популяцию
в целом. Это типично, например, для аллергенов, которые беспокоят
только "аллергиков".
Подавление энзимов и инвитровый токсикологический тест
В целом токсические вещества действуют через подавление одного энзима
или больше либо же коэнзимов. Чем более важен нарушенный метаболический
путь для жизни клетки, тем скорее постоянное подавление ведет к
смерти. Например, синильная кислота вызывает почти мгновенную смерть,
потому что она блокирует во всех системах организма цитохромную
деятельность, необходимую для дыхания клеток.
На основе этого есть возможность протестировать предположительно
токсическую субстанцию с помощью уже изолированных энзим, а благодаря
прогрессу биомедицинских исследований, таковых скорее всего будет
больше. Если энзим для определенной токсической субстанции неизвестен,
то эксперименты проводятся на всех доступных энзимах. Когда он известен,
то субстанцию можно тестировать в разных концентрациях для количественного
анализа процесса. Более того, через тестирование энзимов можно идентифицировать
антидоты, то есть, субстанции, способные заблокировать действие
токсина на определенный энзим. Примером метода подавления энзима,
когда цель известна, является метод органофосфатов.
Инвитровые нейротоксикологические тесты на органофосфатах.
Органические соединения фосфора (органофосфаты) используются либо
отдельно, либо в соединении с другими субстанциями, такими как инсектициды.
Их также используют в небольших количествах для производства некоторых
лекарств. В промышленности они входят в состав определенных смазок
и веществ, используемых для производства синтетических смол. Таким
образом у человека есть множество возможностей вступить в контакт
с этими субстанциями. Пестициды могут быть употреблены вовнутрь
случайно или намеренно - в попытке самоубийства. Фосфор как инсектицид
обычно имеет форму триортокрезилфосфата9.
Если цыплятам дать органофорфаты, то у них примерно в течение двух
недель наблюдается характерный паралич. Но проверка этих субстанций
на цыплятах демонстрирует только хроническую токсичность, а не острую
форму отравления (Johnson, 1980). Острое и хроническое отравление
органофосфатами это два отдельных явления с разными биохимическими
механизмами:
1. Острая токсичность связана с подавлением энзима ацетилхолинэстеразы;
форфор деактивирует его, связывая его активную часть10.
2. Хроническая токсичность происходит в две стадии: на первой стадии
органофорфат подавляет нейротоксичную эстеразу (Johnson, 1977);
на второй стадии фосфориловая группа становится постоянно привязанной
к нейротоксичной эстеразе, а та, в свою очередь, прочно прикрепляется
к клеточным мембранам нервной ткани (Aldridge и Johnson, 1977).
На основе этой информации был разработан инвитровый тест для замены
эксперимента на целом организме, с цыплятами. Инвитровый тест имеет
следующие преимущества:
1. Он дает возможность произвести оценку токсичности (а не просто
сделать общее разделение между токсичным и нетоксичным).
2. Он гораздо быстрее и дешевле.
Тест заключается в проверке субстанции, которую подозревают на содержание
токсической концентрации органофосфата, на препарате нейротоксичной
эстеразы, последней позволяют действовать на определенный субстрат.
Если анализируемое вещество блокирует активность энзима, то в субстрате
никаких изменений не происходит, что демонстрирует присутствие токсического
органофорфата или другой субстанции с тем же механизмом действия.
Радиолигандный анализ
Люди широко используют около 70 тысяч синтетических соединений,
и ежегодно их становится примерно на 500 больше (Shayne, 1933).
Это подразумевает необходимость быстрых и экономичных методов различения
активных и инертных субстанций независимо от того, натуральные они
или синтетические. По оценкам, только одно вещество из десяти тысяч
оказывается полезным. Проверка всех субстанций ин виво потребовала
бы огромного количества животных и безмерные затраты времени и денег11.
Более того, как было раньше показано в этой книге, всякая попытка
получить качественную информацию при помощи экспериментов на животных
дает неверные результаты. Радиолигандный анализ (Sweetman и другие,
1933) - это надежный метод, с помощью которого различаются активные
и инертные субстанции, и он особенно важен для выявления лекарств,
косметики, бытовой химии и других продуктов, с которыми соприкасаются
люди и животные, и последующего контроля за ними. Базовый метод
радиолигандного анализа измеряет радиоактивность клеток, которые
стали радиоактивными через связывание с субстанцией, обработанной
радиоизотопом.
Ограничения и требования радиолигандного анализа. Радиолигандный
анализ показывает, действует ли субстанция на клетки, но не информирует
нас, безвредно ли такое действие или же токсично.
Для радиолигандного анализа надо два компонента: культивируемые
клетки и радиолиганд. Каждая клетка из миллионов, образующих животное,
закодировала в своем ДНК все свойства целостного организма. Поэтому
все функции можно изучать на одной клетке организма. При клонировании
одну и ту же клетку можно воспроизвести тысячи раз и таким образом
создать клетки, идентичные родительской клетке. Если предстоит изучение
активности субстанции для человека, если заинтересованность в других
видов, для использования в ветеринарии отсутствует, то радиолигандную
связывающую пробу следует выполнять на культуре человеческих клеток.
Для понимания роли культуры клеток в радиолигандной связывающей
пробе термин "разиолиганд" требует разъяснения.
Радиолиганд - это субстанция (натуральная или синтетическая), которая
предположительно способна действовать на клетки. Чтобы вещество
стало радиолигандом, его надо пометить радиоактивным изотопом. Если
клетка или культура клеток становится радиоактивной, то это доказывает,
что субстанция нашла в ней связь в форме клеточных рецепторов.
Клеточные рецепторы (Parascandola, 1981) (или химические посредники)
- это особые белки, с помощью которых субстанция может действовать
на клетки как благотворно, так и отрицательно. О роли рецепторов
в биологических системах стало известно еще в начале ХХ века, но
только в 1956 году была выявлена связь между прикреплением субстанции
к клеточным рецепторам и ее эффективностью. Радиолигандная связывающая
проба основывается на связывании радиолиганда с клеточными рецепторами.
При отсутствии рецепторов субстанция - даже если она вступает в
прямой контакт с клеткой - будет оставаться неактивной.
Количество связей между лигандом и рецептором зависит от скорости
распада изотопа в минутах (числа распадов в минуту). Поскольку в
большинстве случаев радиолиганд вступает в реакцию с другими (нерецепторными)
протеинами клеточной мембраны и со стекловолоконными фильтрами,
используемыми для прекращения соединительной реакции, не выборочно,
специфическое число распадов в минуту вычисляют путем вычитания
неспецифического числа распадов в минуту от общего числа распадов
в минуту (специфическое соединение = общее соединение минус неспецифическое
соединение). Чем больше соотношение общего соединения к неспецифическому
соединению, тем больше шансов на то, что анализ станет инструментом
для открытия лекарства.
Подходы, основанные на активности структуры, в предсказании
токсичности для человека
Методы на основе структурной активности предсказывают токсичность
химикатов, в соответствии с их структурой. Это предсказание может
быть:
а) качественным (мутаген против нормального гена) - для предсказания
канцерогенеза, тератогенности, мутагенеза) либо
б) количественным - для предсказания значения летальной дозы-50.
Обзор структуры и активности лекарств приведен в Burger's Medical
Chemistry, 1980.
В отличие от радиолигандной связывающей пробы, метод на основе структурной
активности предсказывает токсичность для человека. Как насчет других
животных? Идея о биологической активности соединения как прямой
функции его структуры сейчас имеет возраст более ста лет, но методы
на основе активности структуры стали важным токсикологическим инструментом
только примерно в последние 15 лет.
Примечания
1. Salmonella typhimurium не требует особой питательной среды;
она очень хорошо растет в обычном агаре, в триптическом соевом
агаре или в агаре с сердечно-мозговой вытяжкой.
2. Линию Salmonella typhimurium, способную расти в отсутствии
гистидина, получают путем выращивания бактерий в среде, которая
содержит субстанцию в уменьшающемся количестве, пока в ней не
произойдут необходимые мутации.
3. Существует множество серологических линий Salmonella typhimurium.
4. Уже использовались разные виды одноклеточных водорослей - разработка,
толчком для которой стал тест Эймса.
5. Плазмиды - это структуры, обнаруженные в ядре за пределами
хромосом. Как и хромосомы, они состоят из ДНК и способны воспроизводить
самих себя. Некоторые обеспечивают генетическую информацию, необходимую
для гарантированной переносимости к другому виду или к другим
линиям одного и того же вида.
6. Различия между глазом кролика и глазом человека: (1) толщина
роговицы - 0,037 у кролика, 0,05 у человека; (2) в глазу кролика
имеется третье веко; (3) в глазу кролика слезная секреция очень
слабая; (4) у кролика pH слезной секреции 8,8, а у человека -
7,1-7,3.
7. Трипсин используется в конечной концентрации 0,25, то есть,
250 мг трипсина на каждые 100 мл клеточной суспензии.
8. Трипановый синий используется в растворе 1:10, то есть, 0,2
мл раствора матрикса к 0,9 мл клеточной суспензии.
9. В 1930 году на юге США тысячи людей были поражены полиневропатией,
и произошло это после употребления безалкогольного напитка (Ginger
Jake) из Ямайки. Этот напиток был ввезен контрабандой, и в нем
содержался органофосфат. В 1959 году в Марокко трикрезилфосфат
стал причиной отравления примерно 10 тысяч человек. Инсектициды,
в которых присутствуют органофосфаты, - это мипафокс, трихлорфон
и диптерекс. В 1920-1930 отдельные случаи отравления имели место
среди людей, которые страдали от туберкулеза и получали фосфокреозот
(компонент фосфорных сложных эфиров и фенолов, полученных из смолы).
Симптомы отравления органофосфатами появляются через 8-14 дней
после соприкосновения. Это астения, а потом атаксия и паралич
нижних конечностей. В наиболее серьезных случаях паралич распространяется
и на руки. Предполагается, что органофорфаты вызывают также синдром
хронической усталости.
10. Ацетилхолинэстеразы - это группа ферментов, которые действуют
на окончания двигательных нервов. Они деактивируют ацетилхолин,
образовавшийся при прохождении нервного импульса от нерва к мышце-эффектору,
так что последующие импульсы обнаруживают мышечные волокна готовыми
для следующего сокращения.
11. Центр альтернатив экспериментированию на животных был основан
в Балтиморе (штат Мэриленд), в Университете гигиены и здравоохранения
им. Джона Хопкинса в 1981 году.
Эпилог
Всякий, кто согласен с тем, что вивисекция это эффективный и научный
метод, счел бы глупым бороться против экспериментов на животных
в человеческой медицине - методологии с историческими корнями, восходящими
к Клавдию Галену, во II век нашей эры - при помощи научных методов.
По этой причине кажется, что антививисекционисты глупы, так как
они противостоят этому "научному" методу с помощью действительно
научного метода: ни одно животное нельзя сделать экспериментальной
моделью для другого вида, в том числе и человека.
Когда я начал бороться против экспериментов на животных, то мне
приходилось делать выступления перед десятью-двадцатью пожилыми
дамами - и их собаками - и разъяснять им основы научного антививисекционизма.
Мысль о том, что я иду в одиночку против общественного мнения, приводила
в уныние, и столь же огорчало то, что я оказывался паршивой овцой
среди ученых, лауреатов Нобелевской премии и других признанных светил
конференц-зала. Еще больше беспокоило опасение, что, возможно, я
не прав.
Можете себе представить, что это значит для меня - видеть растущие
легионы врачей, которые ныне пропагандируют те же "сумасшедшие"
идеи более организованным путем. Также возникли крупные организации
врачей, ветеринаров, биологов, а теперь еще и юристов, занимающих
антививисекционистскую позицию. Среди них - "Врачи и юристы
за ответственную медицину", международная организация, базирующаяся
в Лондоне; немецкое объединение "Врачи против опытов на животных";
итальянский Фонд голой императрицы, и Комитет за модернизацию медицинских
исследований в Америке.
Сегодня я чувствую, что у антививисекционистов есть все основания
для оптимизма.
Pietro Croce, Vivisection or Science: An investigation
into testing drugs and safeguarding health.
London - New York: ZED Books Ltd, 1999. - 209 p.
© Перевод: Анна Кюрегян, Центр защиты прав животных
"ВИТА", 2013-2014
Перевод выполнен с любезного разрешения Тициано Кроче, сына Пьетро
Кроче
Постоянная ссылка: http://www.vita.org.ru/library/philosophy/vivisekzia-ili-nauka.htm
Вивисекция
или наука? Книга известного учёного Пьетро Кроче на русском языке
Комментарий
Вернуться
к началу
|


 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕГА́НСТВО
ВЕГА́НСТВО  МЕХ
МЕХ СОБАКИ и КОШКИ
СОБАКИ и КОШКИ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Видео
Видео
 Фото
Фото
 Книги
Книги
 Листовки
Листовки
 Закон
Закон
 НОВОСТИ
НОВОСТИ
 О нас
О нас
 Как помочь?
Как помочь?
 Вестник
Вестник
 СМИ
СМИ
 Ссылки
Ссылки
 ФОРУМ
ФОРУМ
 Контакты
Контакты

 ПОИСК НА САЙТЕ:
ПОИСК НА САЙТЕ:










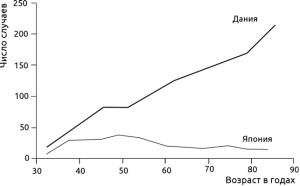
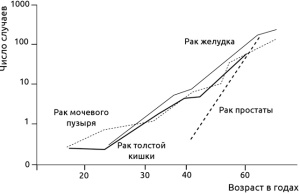
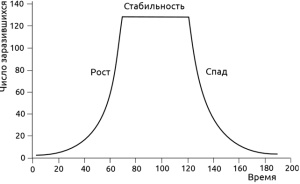
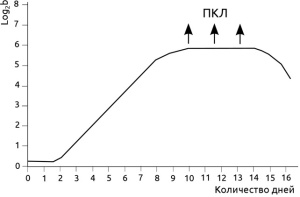
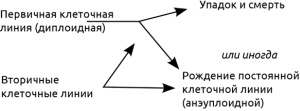
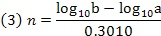
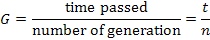
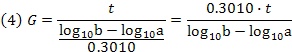
 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































