 |
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 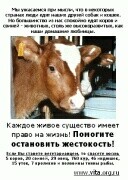
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 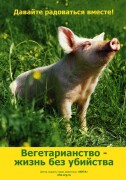
Формат jpg. 180Kb |
| "Россия вегетарианская" - материалы проекта "Виты" по восстановлению истории русского вегетарианства Питание человека в его настоящем и будущем А.Н. Бекетов САНКТ – ПЕТЕРБУРГ
|
|
На 1000 частей по веcy приходится |
Воды |
Белковых веществ |
Жира |
Жир образующих крахмалистых веществ |
|
Животные продукты |
|
|
|
|
|
Сыр |
368,59 |
334,65 |
272,63 |
- |
|
Куриный желток |
523,83 |
163,62 |
291,58 |
- |
|
Яичный белок |
841,04 |
117,60 |
- |
- |
|
Баранье мясо |
727,00 |
220,00 |
27,49 |
- |
|
Бычачье мясо |
733,93 |
174,63 |
28,69 |
- |
|
Семга |
763,69 |
156,02 |
47,88 |
- |
|
Коровье молоко |
857,05 |
14,04 |
43,05 |
40,37 |
|
Женское молоко |
885,66 |
28,11 |
35,64 |
48,17 |
|
Куриное мясо |
762,19 |
196,29 |
14,23 |
- |
|
Растительные продукты |
|
|
|
|
|
Чечевица |
113,18 |
214,94 |
24,01 |
559,05 |
|
Горох |
145,04 |
213,52 |
19,66 |
526,63 |
|
Пшеница |
129,94 |
115,37 |
18,54 |
663,80 |
|
Пшеничная мука |
124,81 |
127,07 |
12,24 |
723,13 |
|
Пшеничный хлеб |
431,91 |
89,88 |
18,54 |
470,05 |
|
Рожь |
138,73 |
117,49 |
21,07 |
668,45 |
|
Овес |
108,81 |
90,43 |
39,90 |
618,43 |
|
Ячмень |
144,82 |
122,65 |
26,31 |
582,19 |
|
Кукуруза |
120,14 |
79,14 |
48,37 |
679,75 |
|
Гречиха |
146,31 |
77,77 |
1,02 |
507,28 |
|
Каштаны |
537,14 |
44,61 |
8,73 |
356,51 |
|
Картофель |
727,46 |
13,23 |
1,56 |
173,30 |
Сравнивая содержание белковых веществ (вторая графа) в животных и растительных продуктах, легко усмотреть, какие из растительных выгоднее для питания, заключая в себе много белков, — а какие, напротив, менее выгодны, представляя слишком мало этих веществ. При этом, однако же, необходимо иметь в виду, что при питании имеет зна-чение не только количество белков, но и отношение их к воде и к остальным веществам пищи. Кроме того, удобоваримость и степень усвояемости, т. е. способность переходит в кровь и плоть, зависит в сильной степени от того состояния, в котором находятся вещества в той или другой пище. Таблицы, подобные предложенной, могут, следовательно, только руководить при первом выборе продукта для питания. Остальное может быть определено лишь опытом и достигнуто практикой23.
Из таблицы видно, что между растительными продуктами особенно высоким содержанием белковины отличаются чечевица и горох. В них белковых веществ значительно больше, чем в бычачьем мясе. Прибавлю к этому, что семена бобовых растений — к числу которых относятся и чечевица, и горох — вообще очень богаты белками. До введения картофеля в Европу, бобовые растения составляли одну из главных статей пищи бедных, трудящихся классов. До сих пор еще во многих странах, так называемые русские и турецкие бобы, горох, чечевица, даже грубые лупины разводятся в большом количестве. У нас за Кавказом, например, в Имеретии и Гурии — турецкие бобы (лоба) составляют главную пищу бедного народа. В коренной России горох в большом ходу.
В виду всего этого, понятно, какой высокий интерес представляет для нас прекрасное исследование доктора Ворошилова24, поставившего себе задачею „определить сравнительно питательную способность мяса и гороха". „Почти вся масса трудящегося' крестьянского сословия, — говорит названный ученый. — принуждена довольствоваться чуть не круглый год растительными продуктами. В виду этого обстоятельства, крайне желательно определение питательных свойств этих продуктов, как сравнительно с мясом, так и сравнительно друг с другом". Доктор Ворошилов производил опыты над самим собой, употребляя при этом постоянно одно и то же количество хлеба и сахара. Только в одном ряде опытов к хлебу и сахару придавалось мяса, а в другом горох. Результат этих опытов следующий. Как та, так и другая пищевая смесь служат к полному, достижению целей питания, что выражается сохранением постоянного веса и поддержанием сил в одном неизменном уровне, как при той, так и при другой диете. Но мясная пища легче усваивается, чем гороховая, а потому последней приходится употреблять больше, чем первой"25.
Итак, первая попытка точной сравнительной оценки питательных свойств мясного и растительного продукта (говорю, первая потому, что действительно подобных опытов еще не было произведено), указывает на один из способов отыскания той формулы смешанной растительной пищи, в которой, как мы видели, так будет нуждаться человечество, в которой нуждается оно и теперь.
Позволительно думать, что с помощью муки гороха или других бобовых растений, техника может отыскать более удобную формулу чисто растительной пищи, чем предложенная доктором Ворошиловым; но, во всяком случае, его опыты и выводы будут служить основой для практической обработки вопроса.
Приведу еще следующее соображение касательно пшеницы. В пшеничном зерне белковых веществ заключается 135 на 1,000. В пшеничной муке, вследствие отброса на мельницах, это количество падает до 127, наконец, в хлебе до 90. Таким образом, разными нецелесообразными приемами приготовления, мы теряем из пшеницы 45 частей на 1000 белковых веществг столь необходимых организму. Все дело можно однако же поправить оковкой мукомольных жерновов. Известно, что наружный слой хлебного зерна за-ключает в себе главную часть его белковины. На мукомольных мельницах, а именно — на крупчатках, этот слой отбрасывается, а на муку идет белая масса, содержащая в излишестве крахмал. Если производить оковку жерновов так, чтобы они снимали с зерна гораздо больше, чем то делается на крупчатках, и эту наружную часть обращать в муку, а цен-тральную, содержащую мало белковины, отбрасывать, то мука, а затем и хлеб, содержали бы в себе больше азотистых веществ, чем в нашем теперешнем пшеничном хлебе.
Часть, не вошедшая в состав муки, ни в каком случае не пропала бы; техника нашла бы ей много различных употреблений.
Мука, полученная таким образом, может содержать весьма большое количество белковины. Притом же, количество это можно изменять по желанию, оно должно быть определено практикой при печении хлеба. Той же обработке может подвергнуться рожь, овес и все зерновые хлеба.
При всех этих соображениях невольно представляется уму одно странное явление. Все в технике, кажется, двигается вперед, и притом с необыкновенной быстротою, одна только пища человеческая остается в том же, почти первобытном состоянии. Более или менее удобные комбинации разных продуктов питания отыскиваются как-то сами собою, или помощью поваров, метрдотелей и так называемых гастрономов, т. е. попросту и по-русски, обжор. Наука мало или вовсе не заботится об улучшении пищи на рациональных основаниях. Она только объясняет различные явления, происходящие во время приготовления пищи и питья, указываете, как удобнее, проще и выгоднее достигнуть желаемых результатов; но принципы, основы питания, вовсе не трогает, признавая их как бы непогрешимыми.
Трюфованные индейки, так же, как разные sauce soubise, remoulade и пр., и пр., имеют, очевидно, для человечества значение меньше выеденного яйца, а хлеб остается тот же самый, которым питались не только первые фараоны, но даже и некоторые племена доисторического человечества: пресный и кислый, и притом из той же самой муки. Открытию кислого теста нельзя не придавать огромного значения в истории питания человека; но можно утверждать без преувеличения, что до сих пор почти ничего не сделано для усиления питательности и удобоваримости хлеба вообще, а между тем это-то и составляет главнейшую задачу относительно питания масс народонаселения особенно в будущем26.
Тем не менее, представленных фактов достаточно, чтобы убедиться в возможности отыскать такую растительную пищу, которая, по своим свойствам, вполне отвечала бы смешанной животно-растительной. Задача эта должна быть и, без сомнения, будет разрешена химией и физиологией.
Мы видели, что человечество влечется необходимостью к растительной пище; мы только что вывели, что нет никакой причины сомневаться в возможности отыскать формулу растительной пищи, соответствующую основному положению физиологии. Но самый важный вопрос состоит в том, будет ли растительная пища в состоянии способствовать дальнейшему интеллектуальному развитию человечества. В состоянии ли эта, тяжелая, по мнению практиков, пища «держать нашу материальную машину в таком виде, чтобы духовные силы, ее оживляющие, могли расти и совершенствоваться, воздействуя и на усовершенствование самой машины?
Теперь в Европе сделалось модой утверждать, что люди, занятые интеллектуальной работой, должны непременно питаться смешанной, животно-растительной пищей. Английский народ, давший столько превосходных ученых и литераторов, пользующийся сравнительно лучшей организацией, облагодетельствовавший человечество столькими изобретениями, наконец, богатейший из всех народов, употребляет мяса больше всех остальных европейских народов. Это обстоятельство всего сильнее действует не только на массы, но и на людей просвещенных.
Спрашивается, однако же, нет ли тут совпадения обстоятельств, не заключают ли тут, как во многих других случаях, на основании ошибочного правила cum hoc ergo propter hoc. Точных и прочных основ для приведенного мнения действительно не существуете. По этому поводу не только не произведено никаких опытов, - но не имеется даже наблюдений.
Мы знаем, например, что ели Аттила и Наполеон I, как один поглощал полусырую конину, а другой любил особенно зажаренных цыплят (poulets a la Marengo). Мы знаем, чем отягчал свой желудок Лукулл, можем прочесть подробное описание пиршества како-го-то отвратительного римского отпущенника Тримальхиона27; но о скромных трапезах Сократа можем только догадываться, и не имеем понятия о том, какой именно обед забы-вал съедать Ньютон, вечно погруженный в свои высокие мысли и соображения.
Мы позволяем себе, однако же, предполагать, что в стране огромных ростбифов и бараньих котлет, этими благами пользуются и пользовались преимущественно не мыслители, но члены лондонского королевского общества, а герои биржи и обитатели Сити. Во всяком случае, за неимением точных данных, приходится обращаться к соображениям, основанным на фактах другого рода, к истории и топографии человеческого питания.
Если мы сравним в отношении образа жизни и цивилизации, народы, сменявшие друг друга в течение веков и тысячелетий, с ныне живущими, то настоящее положение человечества представится нам как бы неподвижной картиной того, что представляет нам вся история развития человечества.
Образ жизни некоторых из теперь живущих диких племен во многих отношениях так сходствует с тем, что известно об образе жизни иных доисторических народов, что мы по быту первых можем заключать о быте вторых. Переходы от одного состояния к друго-му, от дикости к варварству, от варварства к быту патриархальному и к состоянию боль-шей или меньшей цивилизации, происходившее в течение веков, совершаются на тех же началах и теперь, на наших глазах. Эта параллельность между последовательными степенями развитая человеческого рода и между теми степенями совершенства, на которых находятся и теперь разные племена, дает нам возможность не только отследить влияние материального быта народов на их относительное развитие, но заключать и о будущем.
Страны, представляющие до сих пор природу в ее первобытном состоянии, каковы, например, дремучие леса сибирской тайги, живописуют нам картину того, какова была Европа в древнейшие времена, например, при Германцах. Но вместе с тем, настоящее положение Европы дозволяет нам составить себе в общих чертах представление и о будущем лесной сибирской области. Так точно и касательно самого человека.
Еще не прошло и десяти лет с того времени, как ученый мир признал окончательно доказанным тот факт громадной важности, что человек существовал в Европе вместе с отжившими животными потретичного периода. Кости его, вместе с костями мамонтов, на которых его рукой иногда нацарапаны изображения этих чудовищ, найдены там и сям в глубоких слоях земных. При них находятся и остатки грубых изделий самых отдаленных из наших предков.
До сих пор еще не удалось определить, хотя бы с некоторой точностью, время, истекшее от эпохи первого появления этих людей, оставивших хотя редкие, но неизгладимые следы своего существования. Не подлежит, однако же, сомнению, что доисторический период жизни европейского человечества далеко превосходить своею продолжительностью самый длинный из исторических периодов теперь живущих народов, не исключая и китайского.
Несмотря на то, что изучение доисторической старины, началось так недавно, наука успела уже собрать множество драгоценных фактов и восстановить главнейшие черты быта тех дикарей, которые находились в борьбе со слонами, покрытыми шерстью, бегемотами, носорогами, львам и другими зверями, или вовсе исчезнувшими с лица земли или, по крайней мере, из Европы, но бродившими в те времена по местам, занимаемым теперь Парижем, Мадридом и проч. Люди эти выделывали из кремнистого крепкого камня до того грубые орудия нападения и защиты, что для непривычного глаза это просто куски кам-ня, случайно разбившиеся и надломившиеся. Но дело в том, что такие кремни, обитые по краям все на один и тот же лад, находятся тысячами, и что дикари многих океанических островов и до сих пор употребляют подобные же, обитые по краям камни, в виде оружия. Те же доисторические дикари пробуравливали камешки для навешивания их на себя в виде украшений, как то делают и по сей час ныне живущие. Они же грубо обделывали кости тех зверей, которых им удавалось умерщвлять; и опять на тот же самый лад, как многие из живущих теперь дикарей.
В таком-то положении застала наука доисторического европейского человека тех времен, которые, по всей вероятности, были близки к первоначальному его появлению. Человек тогда уже знал употребление огня и питался всевозможными животными, обиль-но населявшими дремучие леса, горные ущелья, реки и озера того времени. Домашних животных при нем не было, о земледелии не было и помину. Присоединял ли он к своей пище какие-нибудь растения — неизвестно, так как никаких следов от этого не осталось.
С того отдаленного времени, в которое в разных местностях Европы бродили дикари древнейшего каменного века и до первого появления римских легионов в теперешней Франции, прошел неисчислимый ряд тысячелетий. Средства, употребляемые геологами для хронологических выводов, правда, в высшей степени недостаточны; но они, во всяком случае, дают несомненное право сказать, что указанный нами период времени должен измеряться не тысячами, а десятками тысяч лет.
В продолжении всего этого громадного периода времени, земная поверхность изменяла не раз свой вид, изменялась конфигурация материков, Британские острова, например, успели отделиться от материка, климат два раза переходил от сурового, холодного к более умеренному; вместе с тем, очевидно, изменялся и растительный покров; царство живот-ных успело лишиться многих из самых видных своих представителей, а прогресс человеческого рода подвигался так медленно, что требуется величайшее внимание, чтобы его заметить. Каменные орудия стали выделывать не простой оковкой, ударяя камень о ка-мень, а отшлифовывать подобно тому, как делают и до сих пор некоторые дикари; грубая глиняная посуда, обломки которой находят вместе с костями отживших зверей, постепенно получает лучшие формы, — словом, прогресс выражается в таких сравнительно легких признаках, что его скорее можно назвать застоем, чем движением.
Только в некоторых местностях Европы следы доисторической старины изобличают более высокую степень развития, чем та, на которой вообще находились люди каменного века. Таковы остатки озерных жилищ, воздвигавшихся в Швейцарии. Сван, на которых стояли целые деревни, местами сохранились и до сих пор. На дне озер, там, где стоят эти сваи, найдены многочисленные остатки разных изделий и пищи доисторических швейцарцев. Остатки эти состоять преимущественно из каменных орудий, но вместе с ними погребены уже кости таких животных, которые и теперь живут в Европе. Многие из тех костей принадлежали несомненно зверям уже одомашненным: быкам, козам, овцам,. собаке, лошади. Вместе с ними попадаются там и сям зерна пшеницы, ячменя, целые ячменные колосья, обуглившиеся плоды, даже печеный хлеб, тоже в обугленном состоянии. При остатках более древних свайных сооружений, находят только отбросы животной пищи, свидетельствующее о пастушеской жизни их обитателей; при подобных же сооружениях позднейшего времени отысканы и остатки вделывавшихся растений. Озерные швейцарцы были, очевидно, уже пастухами, а затем и земледельцами; они стояли по своему развитию гораздо выше дикарей, обитавших, напр., в пещерах Франции и Бельгии; но зато они и появились на своих местах несравненно позже пещерных жителей, потому что при их остатках не находят не только костей мамонта или других слонов, а нет никаких следов даже львов, гиен и других, теперь живущих, но ушедших далеко на юг диких животных; нет также остатков северного оленя, доходившего когда-то до самых Пиренеев.
За каменным веком последовал, как известно, век бронзовых орудий, и многие озёрные жилища принадлежать к этому времени. Земледельческая жизнь в них была еще более развита; очевидно, начали развиваться и ремесла, так как найдены тут остатки пряжи и льняных тканей.
Таковы крупнейшие черты постепенного развития европейского человечества в доисторические времена28. Сказанного достаточно, чтобы обратить внимание читателя на необыкновенную медлительность этого развития, которое притом только тогда оживляется, когда, вместе с земледелием, животная пища начинает заменяться растительной.
Давно доказано, что земледелие есть необходимое условие дальнейшего развития человека. При этом, без сомнения, действует не свойство пищи, а сама земледельческая промышленность, требующая большого напряжения ума, и обеспечивающая человека от заботь о вседневном пропитании несравненно лучше и полнее, чем звероловство и скотоводство. Во всяком случае, и по меньшей мере, мы имеем право сказать, что мясная пища и сопряженный с ней образ жизни бы люди не открыли возможности питаться плодами искусственно возращенных растений, то они наверное бродили бы и до сих пор, подобно американским дикарям, или кочующим ордам центральной Азии. Вот заключение к которому приводит нас то, что известно о быте и необыкновенно продолжительном застое, в котором пребывал человек во времена своего древнейшего существования.
Топография питания, или распределение человеческих племен по пище и по образу жизни, ею определяемому, наглядно указывает на пребывание в дикости доисторических людей и приводить к тем же заключениям. Некоторые писатели любят представлять людей каменного века, даже времен нешлифованных кремней, в каком-то гомерическом свете.
По их словам, это какие-то эпические герои, вступавшие в бой с чудовищными мамонтами, побивавшие страшного пещерного льва и медведя, гонявшиеся за быстроногими гигантскими оленями, огромные рога, которых покоятся до сих пор в глубоких слоях наших торфяников. Погребальные пиры их представляются каким-то разумным, величавым культом усопших. Но тщательное изучение остатков жалких ремесел этих отдаленных прадедов наших, обломков их пищи, состоящей из костей, расколотых вдоль, для высасывания мозга, костей, между которыми находили и человеческие, не-сомненно, убеждают нас, как уже не раз сказано, что те люди находились на самой низкой степени развития. Описывая группу пешересов, Дарвин невольно восклицает29, что «при виде этих людей едва можно верить, что это наши ближние, и живут в одном мире с нами. Нередко спрашивают, чем наслаждаются некоторые из низших животных; не естественнее ли поставить тот же вопрос относительно этих варваров!» Слова эти гораздо более подходят к доисторическим людям, чем мечты некоторых археологов. Эти самые огнеземляне, описываемые Дарвином, живут, вероятно, очень близко к тому, как, например, жили доисторические племена, накопившиеся на датских берегах, так называемые сорные или кухонные кучи (кьеккенмоддинги), состоящие, преимущественно, из раковин, устриц и двух других видов съедобных моллюсков. Они также живут почти исключительно моллюсками и накопляют большие кучи их раковин.
Ввиду всего этого, быт теперь живущих дикарей и варваров представляет огромный интерес. Они сохранили часто привычки, утварь, оружие, местами, вероятно, и утлые лодки, употреблявшиеся задолго до древнейших цивилизованных народов Египта и Индии.
Не вдаваясь в подробности, напомню уже прежде выведенное мной правило, что населенность людьми бывает обратна населенности домашними животными. К этому следует еще присоединить, что в среде двух главнейших и самых многочисленных человеческих пород,— кавказской и монгольской, — наименее интеллектуальными являются те народы, которые всего более придерживаются мясной пищи. Все страны ледовитого прибрежья, не поддающаяся земледелию, населены рыболовными народами, стоящими на самой низкой степени развития. Близко подходят к ним, по развитие, племена, занимающиеся звериной ловлей в северных холодных странах обоих материков. Степи и пустыни повсюду прокармливают мясом и молоком сравнительно редкое, кочующее или пастушеское население, состоящее опять из дикарей или из варваров.
Даже отрасли цивилизованных наций местами стали возвращаться к варварству, под влиянием пастушеской жизни; таковы, например, гаучосы южной Америки.
Даже западная Европа представляет до сих пор явление, сходное с только что указанным: наименее культурной из всех западноевропейских народов — венгерцы, сохраняют до сих пор, среди своих пуста, характер пастушеских народов.
Словом сказать, мы и теперь замечаем в среде мясоядных племен тот же застой, ту же дикость и варварство, в которое были погружены так долго племена доисторических времен. Не приписывая этого прямому, непосредственному влиянию пищи, мы и здесь можем, однако же, утверждать, что питание животными продуктами непричем относительно человеческого прогресса.
Последний период европейской жизни, с включением варварства и полуварварства средних веков, ничтожен по сравнению с периодом дикого звероловства и пастушества. Историк, не принимающий во внимание времен, о которых не существует писанных или хотя бы изустных преданий, может поражаться трудностью и медлительностью поступа-тельного движения человечества; но для геолога должна казаться удивительнее та быстрота, с которой человек прошел последнюю из ступеней своего развития, то необыкновенное совершенство, до которого он дошел в такое короткое время.
Из всего, что можно видеть в Западной Европе, самое сильное впечатление производит на многих Помпея. Никакие описания или картины не могут возбудить того неизъяснимого трепета, который овладевает душой мыслящего человека, ступающего на камни, истертые людьми, жившими тут полной, своеобразной жизнью как бы вчера, а между тем ис-чезнувшими с лица земли тому назад около двух тысяч лет. Вот-вот ждешь, что они явятся — эти люди, что брызнет водяная струя из фонтанов, истертых по краям их амфорами, их руками, их пылающими от дневного зноя губами, что сейчас все тут зашевелится прежней жизнью. Еще мгновение задумчивости, еще одно напряженное усилие воли — и фантазия, кажется, готова превратиться в действительность.
Такое живое чувство, возбуждаемое римскою стариною в человеке XIX столетия, возможно не только потому, что он собственно живет тою же жизнью, которой жили древние, но и потому, что он отделен от них таким ничтожным промежутком времени.
Проникая и мыслью, и чувством, и фантазией в эту юность нашей цивилизации, сравнительно с почти неисчислимою продолжительностью мрака, в которой было погружено доисторическое человечество, можно проникнуться и надеждой, что бедствия современных нам народов мало-помалу исчезнуть — также, как исчезло, наконец, величайшее из бедствий, когда-либо тяготивших над людьми, а именно поголовное варварство.
Но для этого прежде всего необходимо полное замирение и исчезновение мясоедных дикарей, ибо, с точки зрения естествоиспытателя, сама история, в крупнейших чертах своих, есть ни что иное, как борьба мясоедных варваров с земледельческими хлебоядными народами. Она состоит именно из постепенного совершенствования земледельческих племен, при вытеснении пастушеских, пребывающих на степени дикого невежества. Величайшие исторические катастрофы определены огромными переселениями мясоедных варваров; величайшие эпохи прогресса совпадают с переходом этих варваров от исключительно мясной пищи к растительной и к земледелию. Можно утверждать, что и в новейшее время главнейшую причину борьбы между человеческими племенами составляет до сих пор существующая противоположность между темными массами, которые живут стадами, и оседлыми народами, питающимися хлебными растениями. Частные войны между европейцами, или борьба китайцев с их западными подданными, являются, с самой общей точки зрения, второстепенными моментами, великого движения и столкновения народов, под влиянием указанных причин.
В Старом Свете ключом к дальнейшему развитию человечества, очевидно, служить наше отечество. Его полуцивилизованное состоянию зависит прямо от того, что оно все еще продолжает бороться с мясоедными варварами, или с их потомками, не потерявшими еще привычек своих предков. Громадные земли русской империи до тех пор не могут и не будут служить человечеству сообразно гигантским силам, скрытым в их недрах, пока эта борьба с варварами не минует окончательно) Западная Европа, население которой чрезмерно уплотнилось, до тех пор не перестанет угрожать России, осуждая ее (в запуще-нии столь огромных плодородных земель, пока Русь не будет в состоянии, мирно возделывая свои поля, засыпать все страны, от Карпат до Океана, избытком своего хлебного зерна.
Другое движение, происходящее на крайнем востоке нашего Старого Света, также представляет непрерывную борьбу, вызываемую мясоедными ордами степной Азии, с хлебоедными китайцами. Весь этот хаос, так долго царствующий во внутренней Азии, не есть ли это следствие дикости мясоедных полчищ, не успевших или не сумевших сесть на растительную пищу, среди трудных условий занимаемых ими стран.
Наконец Индия, эта страна, издревле отвергнувшая всякое животное питание, не обязана ли и она жалким состоянием своих народов тюркским и монгольским мясоедным завоевателям. Итак, широкий взгляд на развитие человечества, от отдаленных времен каменного века до наших дней, равно как оценка, в крупнейших чертах, настоящего положения населения земного шара показывают, что род людской всеми силами стремится к превращению поверхности своей земли в пахотные поля и сады. Задержкою в этом стремлении именно служат мясоедные народы, которые и являются основною причиною той борьбы в среде человечества, которая столь цинически выражается войнами и всякими взаимными притеснениями. После всего этого мы в праве заключить, что преобладание мяса в пище, а тем более исключительно мясная пища свойственны лишь дикому и варварскому человеку.
Здесь было бы уместно представить исследование о пище цивилизованных народов древности, начиная с самых отдаленных исторических времен; но, не будучи достаточно знаком с этим предметом, я решаюсь указать только на несколько, более или менее известных фактов, как это сделано мною в предшествующих строжках касательно отношения варваров к цивилизованным народам.
Укажу именно на то обстоятельство, что самая древняя цивилизация дальнего востока возникла среди народов, питавшихся преимущественно или даже исключительно растениями, среди фитофагов. Как ни низка нам кажется цивилизация Китая, но она, во всяком случае, бесконечно выше той степени развития, на которой остановились степные орды, подвластные той же Небесной империи.
Еще выше стояла образованность древней Индии, развившаяся среди племен, отказавшихся от всякой животной пищи. Наконец, самые греки, философия, наука и искусство которых послужили основою нашей образованности, отличались, в лучшие времена своей истории, величайшею умеренностью, питаясь преимущественно растениями. За это они даже получили прозвища малопищих и листоедов.
Я не думаю, чтобы из всех приведенных соображений можно было заключить, что растительная пища лучше всякой другой способствует интеллектуальному развитию человека; но из них однако же, несомненно явствует, что пища чисто мясная определяет образ жизни, совершенно несовместимый с прогрессом. Что же касается до смешанной животно-растительной пищи, то на основании перечисленных фактов можно только утверждать, что не она подвинула человеческий род на пути цивилизации, ибо отцы самых высоких религиозных и нравственных идей, самой возвышенной философии и науки, нередко черпали физические свои силы только из царства растений. Сущность дела, очевидно, не в том, чем именно питается человек, а в том образе жизни, который определяется этой пище.
Предрассудок о безусловной необходимости смешанной животно-растительной пищи зародился исторически, вследствие долговременной привычки зажиточных классов европейского населения, а также вследствие удобств, представляемых этой пищей. Более или менее подходящая смесь мяса с хлебом или с овощами отыскалась, так ска-зать, сама собой: каждый человек инстинктивно и весьма удобно может изменять, согласно потребностям своего организма, баланс между белковыми и безбелковыми веществами своей пищи, посредством усиления или ослабления того или другого из двух ее элементов. Так как в известных слоях европейского общества смешанная животно-растительная пища передавалась из рода в род в продолжении многих веков. То понятно, что самый организм европейца приспособился к этого рода пище.
Указанный предрассудок исчезнет, однако же, сам собой. Если бы, "например, какое-нибудь семейство немецких баронов посредственного состояния таких теперь очень много — могло восстановить, не только всю свою генеалогию, но вместе с тем и состав трапез всего длинного ряда своих предков, то оно, наверное, было бы поражено скудностью мяса своего теперешнего стола, по сравнению со столом древнейшего из своих родоначальников. Оно увидело бы вместе с тем, что эта скудость наступала постепенно, — сначала исчезла дичина, заменившись говядиной и бараниной; затем и говядина стала реже появ-ляться, наконец картофель, браунколь и грюнколь, кольраби, фасоль и множество других овощей начали преобладать, а теперь в иной день за столом появляется мясо только в виде сока, в виде приправы к разнообразным произведениям растительного царства.
Обедневшие бароны наши принуждены были бы сознаться, что в будущем за столом их потомков исчезнет, пожалуй, даже всякий след мясных кушаний. Предрассудок, о котором идет речь, поддерживается в Европе также весьма сильно обаянием Англии. Страна эта служит предметом зависти и подражания всем остальным, сознательно живущим народам. Странно было бы сомневаться в ее относительно высоком процветании и в ее преобладании касательно всего, что можно считать практически полезным для человечества; а где же, в самом деле, сытнее и целесообразнее прокормлены самые массы населения, где же в Европе так обильно мясо, как не в Англии? Я уже указы-вал на это сопоставление; но здесь приходится спросить, можно ли действительно считать Великобританию типом и образцом культурного государства?
Один ученый и известный писатель30 до того, по-видимому, убежден во всеобщем преобладании Англии, что предсказывает будущее первенство английского языка над всеми остальными. В виду всемирного его распространения, он даже советует англичанам позаботиться об изменении их неудобной орфографии. Но, несмотря на блестящие стороны английской культуры и жизни, всякий согласится, что и она страдает своими, и притом очень крупными недостатками.
Если вникнуть в эти недостатки, то чуть ли не все они окажутся следствием из-лишней сытости. Атлетизм, порожденный обильной мясной пищей и всякими гимнастическими упражнениями, чересчур распространяется в Англии; в некоторых классах ее населения он стал даже идеалом. Вот это-то стремление к развитию мускулов, всегда отличавшее сынов Британии, составляет основу всех их недостатков и пороков. Нашелся же там недавно такой моралист, который провозгласил во всеуслышание, что счастье разумного человека должно заключаться в достижении умеренного богатства и комфортабельной обстановки.
Главнейшее достоинство английского ума и образованности заключается в необыкновенной практичности. В Англии все имеет отпечаток утилитаризма. Искусства стояли всегда, и теперь находятся, на необыкновенно низкой степени развития сравнительно с общим политическим и общественным развитием страны. В самой литературе напрасно ищешь возвышенных, отвлеченных идеалов. Математика, механика, особенно же при-кладные науки, технические знания, — вот на что всего больше способен английский народ. Все это вместе составляет драгоценное целое, без которого образованное человечество не может обойтись, но так как утилитаризм всегда узок, то английская цивилизация приспособлена исключительно для англичан. Внешняя политика умна, благоразумна, и все, что угодно в том же роде, но руководится исключительно материальными выгодами заправляющих классов одной Англии. То же можно сказать о внутренней политике этой страны, где, при величайшей политической свободе, сумели поработить все население нескольким сотням тысяч богачей, содержа при том массы на такой степени материального довольства, что они остаются в покое.
Все это, однако же, могло быть достигнуто и достигается насчет остальных народов. Невольно припоминается мне при этом одно явление, возникшее в северной Германии в недавнее время, а именно превращение хлебных полей в луга, ради откармливания скота. Так как немецкая пшеница и рожь не могут соперничать с русским и американским хлебом, а в Англию требуется мясо, то северные немцы и стали производить из своей земли мясо для англичан. Если это будет распространяться, то хлеб в той части Германии по всей вероятности вздорожает, и тогда можно будет без парадокса утвер-ждать, что часть британского населения питается кровью и мясом немецких обывателей. К счастью, в России, которая кормит своим хлебом значительную часть английского населения, возвышение хлебных цен выгодно именно для крестьян, которые произво-дят большую часть нашего хлеба. По крайней мере, оно так должно бы быть, если бы наше крестьянство могло повсюду получать за свои продукты настоящую цену.
Не вдаваясь, однако же, в подробности, мы здесь должны указать только на то, что английский утилитаризм, находясь в связи с атлетизмом, а, следовательно, — с мясной пищей, совершенно лишает английскую цивилизацию мирового значения. Переса-дить ее на континент невозможно — уже потому, что тут она тотчас потеряет свой глав-ный характер, практическую узость интересов, а главное — потому, что если, сравнительно, маленький английский народ может жить насчет остальных, то это совершенно немыслимо относительно больших народов контингента, не отделенных друг от друга морскими проливами. Великая польза, извлекаемая человечеством из английской цивилизации, была бы ничтожна без идеалистического глубокомыслия и пылкого остроумия германских и романских народов, которых, по сравнению с английским, можно называть, пожалуй, и микро-трапезами и филлотрогами, так как они действительно едят гораздо меньше, чем англичане, особенно мяса.
Если, мысленно остановившись на всех затронутых нами вопросах, вдуматься еще раз в кратковременность, в относительную новизну нашей образованности, то мы придем к тому убеждению, что род человеческий находится только в начале своего истинно-интеллектуального развития.
Для того, чтобы выступить из периода дикого варварства человечеству потребовался весь четверной период геологов. В продолжении всего этого длинного ряда тысячелетий, человек, оставаясь звероловом, мясоедом и даже людоедом, подобно зверям, заботился только об удовлетворении своих личных потребностей, о сохранении себя самого. Этот период можно называть поэтому периодом самосохранения.
Только с переходом к земледелию начался постепенно тот период, который может называться периодом сохранения рода. Люди стали заботиться о семье, о своих соплеменниках, наконец, о соотечественниках; но и до сих пор еще не дошли до полного сознания необходимости заботиться в равной степени о сохранении всего своего рода в целости. Называющие себя космополитами почти всегда оказываются себялюбцами, относящи-мися с одинаковым равнодушием как к судьбам своих соотечественников, так и к судьбам каких-нибудь орочан, папуасов, китайцев и т. д. Изречение: для мудрого весь мир — отечество, остается и теперь, как в древности, отвлеченным понятием. Находясь в начале этой эры, мы еще долго будем свидетелями остатков первого периода, к несчастью, еще очень значительных. Наступит ли когда-нибудь третий век, век самосовершенствования, когда заботы о самосохранении и сохранении рода войдут в плоть и кровь каждого человека, а высшей заботой и высшим наслаждением будет выработка и осуществление нравственных идеалов?
В виду необыкновенной продолжительности первого периода, в виду юности нашей цивилизации, наконец, в виду того, что от времени до времени появляются люди, принадлежащее как бы к тому желанному будущему, мы, со своей стороны, не сомневаемся, что оно наступит — это желанное будущее. Не берусь развивать здесь этой утопии, как ее назовут многие, а может быть и большинство моих читателей. Попрошу, однако же, перенестись фантазией в глубь каменного века и представить себе одного из швейцарских дикарей, времени озерных жилищ, спящего, например, на берегу Констанского озера.
Ему снится чудный сон. Он видит обширные воды своего родного водоема, но нет на нем более признаков приземистых хижин его деревни. Повсюду, на прибрежных пышных лугах, в долинах и на окрестных лугах, пасутся или лениво лежат, жуя свою жвачку, сытые стада. Не видно даже пастухов, но не видно нигде и желтого длинного тела с косматой головой, осторожно пробирающегося в кустах. Там, где еще вчера вопили стаи гиен, раздирая вонючее мясо, возвышаются фантастические здания, узорчатые башни и шпили. Воды озера бороздятся огромными, дымящими и шумящими лодками, с толпами веселых людей. В воздухе слышится, неведомый нашему сонному зверолову, металлический звон колоколов. Всего же более он поражен огромными, на его глаз, толпами людей и тем миром и согласием, которые между ними царствуют... Этому человеку, очевидно, грезится его родное озеро, в том виде, в котором оно теперь. Что, если бы, проснувшись, он сумел рассказать своим соплеменникам хоть частицу того, что ему приснилось, утверждая притом, что все это со временем совершится, что все это не пустая фантазия, а нечто; вполне возможное, хотя и в далеком будущем. Нашелся ли бы в те времена хоть один человек, способный не только поверить, но даже и внимать сумасбродным речам бедняка?
Подобными же дикарями по отношению к будущему являемся и мы, когда не можем даже представить себе, что может наступить время, когда люди перестанут предаваться самоистреблению, и даже того, что когда-нибудь люди будут все поголовно и ежедневно сыты, одеты и прикрыты от непогоды.
Как бы то ни было, если даже считать высказанные надежды за пустые мечты, все же в истории человечества наступит период более возвышенной и более распростра-ненной цивилизации, чем цивилизация нашего времени. И этот век несомненно, совпадет с такими временами, когда человек будет черпать свои силы исключительно из царства растений. Может быть, на далеких полярных окраинах, на иных океанских островах или негостеприимных берегах, останутся племена ихтиофагов; но они не будут способны следовать за общим прогрессом человечества. Ссылаясь навсегда как бы неподвижным изображением того, чем был человек на первых ступенях своего развития.
Итак, повторяем, будущность за вегетарианцами, а науке предстоит великая обязанность — выработать формулу растительной пищи, вполне соответственную основным выводам физиологии. В заключение еще несколько слов о том, в какой мере животная пища согласуется с высшим проявлением человеческой природы с тем, что мы называем гуманностью. Следы ее заметны и в самых звероподобных дикарях, но высшей напряженности достигла она в среде цивилизованных христианских обществ. Любовь не только к одному человечеству, но и ко всему живому, даже ко всему, что входит в состав вселенной — вот высшее проявление этого благороднейшего атрибута нравственно - развитого человека.
Такая характеристика, очевидно, не вяжется с убийством, хотя бы и бессловесного животного, и отвращение ко всякому кровопролитию будет всегда первейшим признаком гуманности.
Многие при этом, может быть, готовы разразиться сардоническим смехом над сен-тиментальностью, расстройством нервов и т. п.; но я желал бы знать, согласился ли бы хоть кто-нибудь увидеть весь свет населенным одними мясниками, живодерами и тому подобными ремесленниками, необходимыми в наш просвещенный век?
В Европе давно существуют общества покровительства животным, но искусственно созданная потребность некоторой части человечества к мясу считается достаточной причиной для отнятия жизни у этих, заботливо охраняемых существ.
Мы все до того привыкли есть или видеть, как другие едят мясо, что нам при этом и в голову не приходить мысль об убийстве тех животных, куски которых лежат перед нами на блюде. Там где-то за городом, есть бойня, отвратительное, смрадное и кровавое место, где режут, дерут, рубят и цедят кровь из жил; но кто же туда заглядывает!
Там, где-то за Дунаем, думалось, может быть, иным легковерным, валяются тысячи мертвых и полумертвых человеческих тел, растерзанных и всячески изможденных; но что же делать, — война, необходимое зло, имеющее и свою хорошую сторону, ибо она освежает общественную атмосферу, подобно грозе, как говорит знаменитый фельдмаршал Мольтке.
Мне кажется, что эти две бойни находятся в несравненно более тесной связи, чем то думают обыкновенно; что мясническое и пушечное мясо (la chair de boucherie et la chair a canon) представляют два явления, друг друга определяющие или, по крайней мере, друг друга поддерживающие. Дело тут вовсе не в сентиментальности, не в ложной чувстви-тельности, а в том, что грубость ремесла непременно определяет и грубость чувств. Так как необходимость в атлетах уже почти миновала, теперь и стальные пушки выковываются паровыми молотами, то нечего и жалеть о будущем исчезновении такой примеси к человеческой пище, которая всего более способствует грубости нравов и развитию мускулов.
Ссылки:
1 Химия в приложении к земледелию и физиологии растений, Ю. Либиха.
Перевод профессора Ильенкова. Второе издание. Москва, 1870, стр.
65.
2 Описание камеры со всеми ее снарядами находится в следующей работе: Ueber die Respiration von d-r Max Pettenkofer. Annalen der Chemie und Pharmacie von Wohler, Liebig u. Kopp II. Supplementband, 1862 и 1863. Тут же и три объяснительные таблицы. Снаряд назначен специально для исследований над дыханием. Он и называется дыхательным снарядом.
3 Опыты над питанием человека произведены с помощью названного снаряда Петтенкофером вместе С ФОЙТОМ И ИЗЛОжены в Zeitschr.. f. Biologie Bd. II
4 Если бы на эти и на следующие строки было обращено достаточное внимание, то вряд ли стали меня упре-кать, чуть ли не в желание отнять у каждого тот кусок мяса, который вы ежедневно на его долю.
5 Тут должно, однако же, прибавить, что у человекоподобных обезьян (напр., гориллы) есть сравнительно небольшой перерыв между клыком и примыкающим к нему зубом. Вверху перед клыком, внизу за ним. Замечательно, однако же, что этот перерыв попадается иногда и у человека, как то замечает, между прочим, и Дарвин в своем сочинении о происхождении человека.
6 Судя по некоторым возражениям (Здоровье № 95, 1878 г.) иные думают, что один только Кювье считал зубы человекоподобных обезьян сходными с человеческими. Не говоря уже о том, что это явствует из наблюдений, которые всякий натуралист может произвести в любом анатомическом собрании, назову хоть следующее сочинение Т. Г. Гексли. О положении человека в ряду органических существ. Перевод под редакцией А. Бекетова. Нужно помнить, что когда производятся научные доводы с помощью аналогии, то следует сравнивать между собой предметы (в нашем случае животные организмы), наиболее сходные во всех деталях.
7 См. И. С. Блиох. Исследования по вопросам, относящимся к производству торговли и передвижение скота и скотских продуктов в России и за границей. Спб. 1876,. стран. 47 и СЛЕД. Данные заимст-вованы из официальных источников или у надежных писателей.
8 См. Neumann Spallart. Uebersichten iiber Production¬Verkehrsmittel und Welthandel, в Behm's Geographisches Jahr¬buch, B. VI, 1876, стран. 608 и след.
9 Этот расчет основан на данных вышеприведенной работы Неймана. Кроме того, сред-ний вес чистого мяса быка или коровы принять в 10 пудов, а барана и свиньи в 5 пудов, что скорее выше, чем ниже действительности, потому что средний вес живого убойного скота, именно быка или ко¬ровы, в Париж* не выше 324 килограммов, т. е. около 20 пудов (19 пуд. 30 Ф. и 62 золотника). Среднее количе-ство мяса ежедневно выпадающее на долю каждого европейца, еще умень¬шится, если принять в расчет неизбежную потерю при ра¬спределении в торговле, а также потерю от порчи и чрез кормление хищ-ных домашних животных (собак и кошек), столь многочисленных в некоторых странах. Впрочем, эта по-теря, вероятно, возмещается птичьим мясом, яйцами, сыром и молоком, которые не приняты в расчет в тексте, но которые также, однако же, довольно распространены. На произ¬водство яиц, впрочем, уже потребляется часть мяса; так напр., около Парижа куры, усиленно производящая яйца, кор¬мятся мясом.
10 Всего в Азии—798.600,000 жителей; в Китае собствен¬но— 450 миллионов; в Индии —437694000; в Японии — 35 миллионов; всего 612694000 (по Бему).
11 Neumarm-Spallart, стр. 609.
12 Там же, стр. 610.
13 Там же, стр. 610 и 611.
14 Neumann-Spallart, стр. 605 и 606.
15 Всякие мясные бульоны, в том числе и либиховский, представляющий лишь обыкновенный сгущен-ный бульон, почти вовсе не питательны, заключая в себе только самое незначи¬тельное количество рас-творенных в воде азотистых веществ. Но в бульоне есть особое вещество, называемое креатином. Креатин способен кристаллизоваться и давать начало другому веществу, называемому креатинином, которое имеет драгоцен¬ное свойство способствовать пищеварению и возбуждать нервную систему подобно тем веществам, которые заключаются в чае, кофе и шоколаде, т. е. теину, кофеину и теобромину.
16 Neumann-Spallart, стр 612.
17 Венгерские степи — так называемые «пусты" или «пушты» — и южнорусские степные страны представ-ляют отличный пример постепенного превращения пастушеских стран в земледельческие. Венгрия начала соперничать с Россией В ХЛЕБНОЙ торговле именно вследствие распространения земледелия сре¬ди ее степ-ной равнины, омываемой Тисой. Русские же степи хотя медленно, но все-таки с каждым годом все более и более распахиваются.
18 Земледелие Голландии, хотя и основано на принципе, со¬вершенно противоположном тому, который слу-жит основанием культуры, например, в хивинском оазисе и в других странах с континентальным климатом, но оба принципа сходятся в том, что для приложения их требуется значитель¬ная затрата капиталов. Ocyшение, производимое голландцами, и орошение, практикуемое в Хиве или в долине Заравшана, могут происходить только при сравнительно густом населении и при легкости сбыта. Голландия отличается как густотой населения, так и удобствами сбыта; среднеазиатские земледельческие страны окружены громад-ными пастушескими странами, и уже по одному этому спрос на каждое хлебное зерно — а следовательно, и постоянный сбыт его—вполне обеспечены.
19 Блиох, стр. 169 и след.
20 Сюда можно присоединить еще и то соображение, что для произведения одного, напр., пуда мяса нужно в 20 раз больше земли, чем для произведения 1 пуда ржаного хлеба.
21 См. ниже таблицу
22 C. Vogt, Psysioiogische Briefe. 4 Auflage. 1873, p. 98.
23 Ключ к будущему уравнению физиологических свойств растительных и животных белков находится в руках химиков. Ни один из них, без сомнения, не сомневается, что такое уравнение не только вполне воз-можно, но что это только вопрос времени. Мало того, — новейшая химия может даже с большой вероятно-стью утверждать, что придет время, когда белковые и всякие другие органические вещества можно будет получать непосредственно из неорганического мира.
24 Исследования о питательных свойствах мяса и гороха. Спб. 1871.
25 Вот приблизительные величины суточной порции той и другой пищи, при усиленной мышечной деятель-ности. Мясная порция: 400 гр. (93 з. 74 д. русского фунта), хлеба, 100 гр. (23 з. 42 д.) сахара 140 (33 з.) сухо-го мяса (около 525 гр. или 1 Ф. 27 з. сырого); гороховая порция: 400 гр. (93 з. 74 д. русского фунта) хлеба, 100 гр. (23 з. 42 д.) сахара и 400 гр. (94 з. 74 д. русск. ф.) гороха, принимавшегося в виде киселя.
26 См. von Bibra, Die Getreidearten und das Brod. Nurenberg. 1860. В этом сочинении собрано главное из того, что было до 1860 года предпринято для улучшения способов приготовления хлеба. Не раз обращали внима-ние на уменьшение питатель¬ности хлеба от выделения из муки отрубей, содержащих главную часть отрубей (стр. 196 и сл.). Предлагались даже спо¬собы печения хлеба с отрубями (стр. 381 и сл.), но все это. еще далеко не выработано. Точных опытов касательно усвоя¬емости отрубей человеком еще не произведено; удобных механических приспособлений для отделения неудобоваримой части отрубей (клейковины) от пи-тательной и легко варимой еще не придумано. Больше всего обращено внимания на замену ручной работы машинного, на уменьшение потери при выделке муки и хлеба, словом, на удешевление производства. Много также ста¬раются об улучшении высоких сортов муки, что достигается на счет питательности самого хлеба, ибо самый высший сорт пшеничной муки, называвшейся еще у римлян pollen и flos farinae, fleur de farine, Kaisaermehl (в Вене), заключает всего меньше белковины. В последние 17 - 18 лет ничего резко выдающего-ся не придумано.
27 См. отрывок из Петрония, помещенный в сочинении «aus Leben der Griechen und Romer v. E. Guhl u. W. Koner. Часть 2, стр. 260 и след.
28 Теперь в русском переводе имеется несколько хороших книг, по которым можно познакомиться с иссле-дованиями о доисторическом периоде жизни человека. См., напр., Ч. Ляйэля, Древность человека. Пер. В. Ковалевского. Спб. 1864.—Лёббока, Доисторические времена или первобытная эпоха человечества. 1876 и пр.
29 Ч. Дарвин.. Путешествие вокруг света на корабле. Спб. 1865. Т. I, стр. 423 и след.
30 Alphonse de Candolle. 1873. Avantage pour les sciences d'une langue dominante, et laquelle des langues modernes sera neces-sairement dominante au XX-me siecle.
| Наверх |



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































