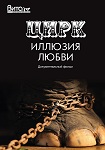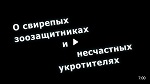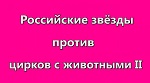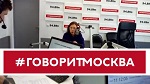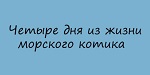|
"Россия
вегетарианская" - проект "Виты" по восстановлению
истории русского вегетарианства
КРОВОПИЙЦЫ и ВЕГЕТАРИАНЦЫ
В. Радугин
Рассказ
Г. Шуя
Типо-литография И.С.Лимонова, соб. дом
1912
© ВИТА Центр защиты прав животных. Восстановление текста, корректура и набор Москва, 2009
Однажды весной пришлось мне быть в одной из столиц на великосветском завтраке у вдовы княгини Мэри Фиалкиной. За завтраком был ее кузен и, вместе с тем, друг дома, офицер в отставке, Пьер Эмблемов, поистрепавшийся, но считающий себя неотразимым, великосветский прожигатель жизни.
Тема разговора была самая обычная и избитая: говорили о последних столичных новостях и сплетнях, говорили о театре, в котором шла последняя новая пьеса.
Пьер Эмблемов возмущался героиней пьесы, которая, чтобы разрешить создавшееся невозможное положение семейной драмы, решила лучше прибегнуть к самоубийству, чем убить изменника мужа.
«Борьба за существование и удовлетворение собственных потребностей, даже вернее удовлетворение собственных желаний и даже прихотей, должна быть на первом плане в наш век реализма, а не допускать себя до глупой сентиментальности. Борьба и борьба, без разбора оружия, вот мой девиз!»
«Попробовали бы вы убедить в этом няню моей Ксани, – сказала княгиня, – вот размазня старуха, просто беда мне в ней, и совсем забрала под свое влияние Ксаню, такая сентиментальная стала девочка, просто ужас! Дело дошло до того, что она с трудом ест мясо и только потому, что я ей это приказываю, а она моих приказаний не может ослушаться, так как боится меня огорчить этим.
Эта старуха втолковала ей, что барашкам и коровкам так же больно, когда их режут, как и нам, что можно питаться, кроме мяса, очень вкусно и быть сытым; она сама по своей старости, вероятно, не ест мяса, да и Ксаничку тянет туда же.
Правда, у Ксани особенного нездоровья не видно, она даже, по-моему, крепче здоровьем, чем Жоржик и Муся, в ней я не замечала никаких проявлений болезни, тогда как они постоянно жалуются то на расстройство желудка, то на головную боль, но зато какие они жизнерадостные: скачут, бегают, кувыркаются, даже оборвут крылышки бабочке или мухе, бросят камень по воробьям; для них даже составляет удовольствие посмотреть, как бьется над лоханкой курица с перерезанным горлом под ножом повара Ивана.
А если у них дойдет дело до дележа чего-нибудь, или до уступки одним другому, то тут прямо совершается какая-то анархия, и торжествуют только право сильного. Раз только кто-нибудь из старших предъявит свои диктаторские права и помирит сражающихся.
Вот откуда начинается борьба-то за существование! Они в будущем возьмут себе лучшее место на жизненном пиру с бою и не останутся обделенными судьбой.
А за Ксаню я право боюсь: такая она будет не приспособленная к жизни, все бы она мирила враждующих, все бы уступала, хотя с видимым ущербом для себя, при виде такого страдания, она сама страдает больше, чем страдающий. Она мне чуть ли не каждый день делает сюрприз в виде какого-нибудь оборванного уличного карапуза или девчонки, которые не кушали, видите ли, со вчерашнего дня.
"Так вот, мамочка, накорми их, пожалуйста". А если ей за это сделаешь выговор, то заплачет и скажет: "Если ты, мамочка, не накормишь его, то я сегодня тоже обедать не буду". И представьте – несмотря на всю ее сентиментальность, она имеет очень твердый характер. Однажды, я, рассердившись на этих непрошенных гостей, не накормила мальчугана и девчонку, которых Ксаня привела с улицы; загрустивши от этого, она сама не выходила целый день к столу и весь день оставалась голодной.
А иной раз нянька нарочно поведет ее гулять мимо мясных лавок, где показывает моей девочке телят с перерезанными горлами и прикушенными языками и подробно рассказывает, как их режут и как им больно бывает. Так что бедная Ксаня после таких рассказов целую неделю не может взять в рот мяса. Просто беда мне с этой нянькой!»
«Так что же вы ее не прогоните, ведь приносит ужасный вред Ксаничке», – сказал Эмблемов. – «Я и сама прекрасно об этом знаю, но ничего не могу поделать с ней. Я бы с удовольствием ее выпроводила из дома; хотя она живет у нас 15 слишком лет, но Ксаня так привязалась к ней и полюбила ее, что она скорее и легче перенесет разлуку со мной, чем со своей няней; я уверена, что Ксаня без нее зачахнет и помрет с тоски».
«Как вы думаете, господа, нужно ли исправить сентиментальную девочку и выработать в ней более твердый и решительный характер?» – спросила княгиня Фиалкина.
Я сказал, что характер у нее очень хороший, и исправлять тут нечего, а напротив, нужно только поощрять его, и что она в будущем даст пример гуманного, но твердого отношения к окружающим ее людям; она будет на высоте своего человеческого достоинства, и что место на жизненном пиру она возьмет не в бою, не разбирая средств, не вырвет куска общественного пирога себе из горла голодных, а окружающие очистят ей место в жизни как достойной, и что она с этого места как солнце осветит и отогреет все, с чем будет соприкасаться лучи ее гуманного и любвеобильного сердца.
Но Пьер Эмблемов был совсем другого мнения.
«Полноте, – сказал он, – все это только одна утопия, неосуществимая в жизни. Окружающие нас так испорчены, что с ними нужна только борьба, не разбирая средств, а для борьбы нужен твердый, даже, более того, жестокий характер, нужно поступать по известному рецепту: клин клином вышибай. Я дам вам к тому пример.
Когда я был на действительной службе, у меня был денщик хохол Пахоменко, его привезли из самой глухой малороссийской деревушки, и странный, скажу я вам, был человек. Однажды я приказал ему заколоть курицу для стола. Когда я ему дал приказание, он по обыкновению, сказал: "Слушаю, ваше благородие!" Через полчаса я его спрашиваю: ну, что зарезал курицу, что я тебе приказал?
– Никак нет!
– А почему же? – удивился я.
– Да она не дается!
– То есть, как это не дается? Да ведь она связана у тебя?
– А она, ваше благородие, дюже головой вертит!
Тут я не знал, рассмеяться или рассердиться на него за это.
– Вот так ты, братец, вояка! Неужели ты в свою жизнь не видал, как режут кур?
– Точно так, никогда не видывал.
Ну, скажите пожалуйста, что мне было делать с таким олухом? А ведь я отучил его от этой глупой сентиментальности.
Стал я с ним охотиться по первой пороше за зайцами. Вот однажды подстрелил я зайца, да не совсем удачно: пищит мерзавец, как ребенок. С перебитыми ногами, трепыхаясь на одном месте; это, знаете, очень неприятное впечатление. Тут я и вспомнил: подожди же, вот прекрасный случай исправить сентиментальные наклонности моего денщика Пахоменко. Я ему говорю:
– Добей, Пахоменко, зайчишка прикладом.
– Никак нет, не могу, ваше благородие, руки не поднимаются.
Тогда я, рассердившись, говорю ему:
– Вот что, братец, если ты будешь размазней и не прикончишь зайца, то я тебя самого так отпотчую прикладом, что ты у меня завертишься, как этот зайчишка, да в карцер на недельку посажу прохладиться; и подошел к нему с угрожающим видом. Так чтобы вы думали? Он подошел к зайцу и, отвернувши лицо от него, начал бить изо всей силы наугад по зайцу прикладом и чуть не биток сделал из него.
Так я страстный охотник, то мне часто приходилось брать Пахоменко на охоту, и я его научил добивать куропаток и тетеревов, ударяя головой о дерево, и он стал делать это безо всякого затруднения, даже с охотой. А однажды было дело так: подстрелил он куропатку, да не совсем, нужно добить, а не обо что – ни дерева, ни пня, и он, недолго думая, схватил голову куропатки своими зубами и сильно стискивает ими; при этом, нужно вам сказать, что зубы у него феноменально крепкие и острые, конечно, он голову моментально размозжил, так что мозг брызнул по его губам, а он вместо того, чтобы обтереть губы, их облизал, и так мерзавец вошел во вкус, что стал не только у недобитых, а даже у убитых наповал птиц прокусывать голову и высасывать мозг; да что птиц, он даже зайцев не оставлял без этой операции. Сколько брани он принял от меня за это – ничто не берет. – "Уж очень вкусно, – говорит, – ваше благородие, особливо с хлебушком!"
Так вот таким образом исправился мой Пахоменко и стал твердым человеком, а не тряпкой, какой был раньше».
«Позвольте вам заметить, Пьер, сказала княгиня, что ваша система не приложима и даже вредна по отношению к Ксанечке. Я сначала сама совершенно тоже думала, что и вы, но в приложении на практике этой системы вышла очень скверная история.
Да подождите, господа, позвольте я все расскажу подробно, по порядку, тем более, что нам торопиться некуда.
Летом прошлого года генерал Марсов праздновал день своей серебряной свадьбы. Вы знаете, что он обладает большим богатством, которое находится в неподвижном состоянии, а также знаете и то, каким широким гостеприимством и даже более того – расточительностью отличается госпожа Марсова.
Так вот, решивши отпраздновать этот торжественный и радостный для них день, они созвали громадное и самое отборное столичное общество. Всевозможным развлечениям не было конца. Начали с костюмированного роскошного бала, потом, конечно, все маски были сняты, и состоялся танцевальный вечер, затем всевозможные игры для молодежи, для более солидных людей – к их услугам игорный стол и буфет, уставленный редкими и дорогими винами. Потом уже поздно ночью, перед самым рассветом летнего прекрасного утра, был устроен чисто луккуловский богатейший и обильный ужин с дорогими винами. Все гости были сильно невеселее. После ужина было кофе. Затем, обсуждали впечатления прошедшего ужина, многие говорили, что им еще не приходилось никогда есть такие кушанья и пробовать такие вина, как за этим ужином.
Один только известный гурман Серж Рюмкин, просадивший сове состояние на обеды и вина, молчал.
Мы спросили его мнение о достоинстве ужина.
"Что же, господа, обед не дурен, что и говорить, но меня ничто уже удивить не может! Я, например, пивал такие напитки, которых не только здесь нет, но я держу какое угодно пари, что никто из присутствующих здесь еще этого напитка не пивал".
Этим вызовом была затронута честь некоторых поседевших в бою с буфетными батареями господ. Все наперерыв стали называть самые редкие и дорогие вина, которые на своем веку им приходилось пробовать; но Серж только головой качал и твердил: «Это все не то, все не то. Все равно, господа, не догадаетесь, лучше не старайтесь. А вот что я вам скажу, хотите я вас всех угощу этим напитком и я уверен, что вы не раскаетесь, тем более, что теперь уже наступило утро и становится совершенно светло».
Все с радостью согласились, но с непременным условием сказать сейчас же, что это за напиток.
"Ну, слушайте же: это совершенно горячая кровь из только что убитого животного". Это ошеломило всех, одних удивило, других разочаровало, иные напугались, но большинство пришло в восторг от этого и, в конце концов, всех заинтересовало это предложение.
Все стали спрашивать Сержа, где ему приходилось пробовать этот напиток.
"Да видите ли, господа, я недавно из Парижа, а в Парижском высшем кругу это – не редкость, что после такого бала, как сейчас, вся компания отправляется на бойни и там пьет свежую горячую кровь.1
С одним таким обществом и я попал на бойню и пробовал этот напиток. Вы и представить себе не можете, как это вкусно! Лучше всякого шампанского самой высшей марки.
Я и предлагаю, господа, вам теперь же отправиться на бойню и испробовать это «шампанское», а там, я уверен, уже работа началась, а если не началась, то через полчаса непременно начнется. Едемте что ли, господа! Я уверен, что никто не будет жалеть об этой поездке".
Начали обсуждать этот вопрос и решили сейчас же с бала ехать на бойню. Тут мне пришла крайне неудачливая мысль: взять с собой на бойню Ксаню для закаления ее мягкого характера и уничтожения ее жалости к животным. Было уже почти семь часов, а Ксаня имела привычку, не в пример другим детям, уже быть одетой к семи часам утра, особенно летом, так что ее можно было взять с собой, те более, что путь к бойням был мимо нашего дома.
Предположение мое оправдалось вполне: когда мы заехали с компанией к нам, Ксаня была уже одета.
Утро было солнечное, теплое. Но под каким предлогом мне нужно увезти Ксаню? Ведь нельзя же ей сказать: поедем, деточка, смотреть, как коровок режут! Я ей сказала про детское утро с живыми картинами, которое устраивается, действительно, ранним утром. Моя девочка, конечно, этому поверила вполне и была очень рада ехать со мной. Когда мы подъехали к бойням, Ксаня спрашивает меня: "Что это, мама, за странное здание, я еще никогда его не видывала, и почему около него все привязаны коровки и телята?"
– Это так, деточка, мне нужно сюда заехать на минутку по одному делу. А потом мы поедем и на живые картины посмотреть. Она, конечно, безусловно, верит мне и в этом, и мы идем в помещение для убоя коров. Мы пришли как раз к началу работ, так что еще ничего не изобличало специальность этого места: ни трупов убитых животных, ни кожи, ни крови не было видно; все было чисто прибрано, и только тяжелый запах изобличал специальность этой работы.
Еще не успела Ксаня меня расспросить, что это за подозрительная комната, как четверо сильных мужиков в красных рубахах с засученными по локоть рукавами ввели с большими усилиями двух громадных быков; у обоих бойцов были воткнуты в ножнах длинные острые ножи. Быков привязали к кольцам. Мы приготовили предварительно захваченные еще с бала стаканчики. Оба бойца вынимают свои ножи и вонзают их глубоко в шеи быков – быки моментально падают перед нами на колени с глупыми недоумевающими глазами, как бы прося в чем-то у нас прощения. Я уверяю вас, господа, что это более смешно, чем страшно, как другие говорят. Затем бойцы выхватывают ножи из шеи и наносят громадную рану по горлу. Из этой раны кровь брызнула фонтаном, мы сейчас же подставили свои стаканчики, которые моментально наполнились горячей. Можно сказать, живой кровью. Мы тотчас же стали ее пить, предварительно чокнувшись между собой, и я должна вам сказать, что этот напиток мне чрезвычайно понравился; но, к сожалению, едва я успела выпить только половину своего стаканчика, как вдруг слышу позади себя голос мальчугана, прислуживающего на бойне: "Барыня, а барыня, смотрите, ваша девочка-то упала".
Я, увлекшись совершенно неиспытанными еще ощущениями, позабыла о Ксане. Оглядываюсь и вижу, Ксаня лежит на полу, ее белая шляпа облита кровью, так как она упала в ручеек, который потек из раны убитого быка, лежит она в глубоком обмороке очень бледная. Я, конечно, очень перепугалась и, даже не допивши свой стаканчик, бросаюсь к ней. Сейчас же выносим ее на воздух и с трудом приводим в чувство. Дома с ней опять был нервный припадок.
Этот опыт стоил ей очень дорого: она целый месяц была больна и в бреду все говорила о крови, ножах, мужиках в красных рубахах и убитых коровках.
Больших хлопот стоило мне привести ее душевное состояние в норму, даже и до сих пор ее внутреннее спокойствие не совсем уравновешено, и всякий ярко-красный цвет приводит ее в трепет и напоминает ей бойню.
Нет, милейший, Пьер, ваш рецепт никуда не годен по отношению у Ксанечке. Что может переродить мировоззрение солдата, то может служить гибелью для ребенка.
Я решила, господа, поступить совсем иначе.
Мне, откровенно говоря, заняться воспитанием или, вернее, перевоспитанием ребенка совершенно нет времени: то рауты, балы, маскарады у знакомых, то у себя, то работы в разных благотворительных комиссиях, летом поездка на воды; все это так много отнимает времени, что о занятии детьми нечего и думать. Приходится положиться на усмотрение гувернанток, но по отношению к Ксане мне не хотелось бы применять это, так как у нее совсем другие наклонности характера. У меня есть знакомый профессор Скипетров, который известен, как знаток детской психологии, в частности, и как замечательно опытный воспитатель и педагог вообще. Я и решила отдать Ксаню в его полное распоряжение и непосредственный надзор гола на два, на три, вообще до тех пор, пока он не даст твердого направления ее характеру. Как он решит, так пусть и будет, вмешиваться не стану.
Конечно, это будет стоить мне больших денег, но что же делать, счастье ребенка у меня стоит на первом плане, оно для меня всего дороже!»
Я не захотел разубеждать эту близорукую недальновидную мать: ее убеждения все равно не изменишь, да и не хуже ли было бы и Ксани, если бы она подпала под материнское безалаберное воспитание, или чужих и чуждых ей гувернанток-воспитательниц, которые наводят внешний лоск в деле воспитания, не заглядывая в тайники детской святой души!
Вскоре я распростился с гостеприимной генеральшей и ее собеседником и уехал домой.
Осенью того же года пришлось мне быть по своим делам в глухой захолустной деревне, далеко отстоящей от центров нашей фабричной культуры, да и вообще эта деревня удалена от всяких «центров» и живет своей нетронутой самобытной жизнью. Недаром она и названа Нетронутая и свое название вполне оправдывает.
В полях работа кипела. В некоторых местах дожинали оставшуюся еще неубранной рожь. Любо было смотреть, как дородная баба полными горстями проворно жала колосистую высокую рожь. Недалеко от нее на разостланном отцовском кафтане сидели две русые голубоглазые девочки и плели венки из васильков. К ним подходил мальчуган с обедом из дома. В других местах попадались мужики, которые уже начали косить овес. Ровными кучками ложился он под широкими взмахами сильных рук. Попадались еще полосы полузеленого гороха, на этих полосах по краям виднелись, как галчата, деревенские ребятишки, которые очень любят полакомиться сладким горошком. Были на моем пути целые полосы, засеянные репой. На этих полосах не было видно никого, конечно, не потому что не было охотников полакомиться вкусной репкой, а потому, что этих охотников было слишком много и крестьяне всем миром порешили дать три полтины дедушке Еремею, чтобы он поставил шалашик на репищах и никого не допускал, даже самих хозяев, к этому лакомству до положенного времени, после которого уже можно будет пользоваться этим овощем по своему усмотрению.
Деревня Нетронутая была большой деревней, и мне не так скоро удалось найти дом моего знакомого Силантия Подмогалова, у которого мне нужно было побывать по делу. Наконец ребятишки указали мне, как найти его дом. Он, оказывается, стоял на краю деревни у леса. Все дома деревни Нетронутой были довольно просторны, более половины новых (недавно был пожар); дряхлых домов совсем не было, так как деревня владеет свои лесом. Избы отличались хозяйственностью и уютностью. Они строились с тем расчетом, чтобы в одной избе прожить не только с молодых лет до глубокой старости, но даже и сыновьям с внуками провести в этой же хате всю жизнь, если только Бог грехам потерпит и не посетит пожаром.
Чтобы дойти до избы Подмогаловых, надо было пройти деревню из конца в конец. Вся деревня была почти пустая, если не считать ребятишек, которые играли в бабки и нянчили своих братишек и сестренок, да кое-где сидели на завалинках совсем уже дряхлые старики и старухи, имея под своим надзором внучат. Но вот я и дошел до конца деревни. На правой стороне к лесу стоял довольно большой дом с белыми закроями, уже далеко не новый, но из толстых ровных бревен совершенно здоровый. На завалинке сидел седой, крупного телосложения, но уже очень преклонного возраста старик; около него возилась в песке девочка лет трех.
«Здравствуй, дедушка! Не эта ли будет изба Подмогаловых?» – «Здорово, батюшка, я есть дедушка Софрон Подмогалов, а это изба наша. А кого тебе надоть, родимый?» – «Да мне нужно повидать Силантия Подмогалова. Сын что ли он тебе будет?» – «Как же, как же, сынок; да ведь его здесь нет, он на гумне с внучатами рожь хлыщет. Вишь погодка-то какая благодатная для нашей рабочей страды, самое время разлюбезное! Днюем и ночуем на полях да на гумнах, если сейчас да лениться, так зимой брюхо подведет с голодухи. А что, батюшка, тебе сейчас надо Силантия-то, или может быть и не больно торопко? Я бы и сейчас тебя отвел на гумно-то, да вот Дашутку не с кем оставить; это правнучка моя будет, старшего внука Сергея, первенькая!»
– Не беспокойся, дедушка, мне не к спеху, я с удовольствием отдохну с тобой на завалинке в тени; я у вас останусь ночевать, торопиться мне некуда, посидим да потолкуем, а тем временем и ваши подойдут.
Я сел рядом с дедом.
Действительно, после жаркой и пыльной дороги отдохнуть в прохладной тени было очень хорошо.
– А сколько тебе, дедушка, лет будет?
– Немало годков-то мне, милый, в зимнего Миколу два годка за девять десятков стукнет, да ведь и слаб я стал, что и говорить, все зябну, вот и сейчас жара стоит, ну на завалинку выбрался, а то ведь, добрый человек, я уж с печки нейду, все знобит, да кости ноют, должно уж немного намаячу на этом свете, разве какой-нибудь годок-другой дай Бог. Ведь и то сказать, не два века жить, будет – пожил, погрешил. Вот, батюшка, к слову о двух-то веках пришлось, отец моей-то свекрухи, жены Силантия, дедушка Пимен, тот, действительно, захватил и другого-то века добрую частицу; умер он, царство небесное, сто десяти годков от роду, вот был кряж, так кряж! Вот тебе крест честной! Ста пяти лет ходил в поле с сохой да бороной и только за год до смертоньки лег на печку-то».
– Ну, а какую жизнь-то он вел, дедушка?
– Это ты на свет чего же, какого он поведения был? Да, старик строгий был, что и говорить, соблюдал себя во как! Он и раньше не падок был на разные слабости, а к сорока годам и вовсе все бросил: убоину перестал есть, табак и вино тоже бросил. Зачем, говорит, Божью тварь зря губить, можно, говорит, быть сытым и без ее мертвого тела.
А уж какой был жалельщик до скота! Куда бы ни поехал кнута с собой ни за что не возьмет. Другие удивлялись ему: «Да неужели, дедушка, тебя лошадь так слушается?» – «А неужели, родимый, не слушается, на то ведь ей разум дан, чтобы она понимала слова, а разве можно живую тварь кнутом хлестать? Ну-ка я тебя отстегаю кнутом-то, каково тебе будет? Да и злобы-то сколько у тебя прибавиться против меня! Так ведь и скотинка-то тоже самое чувствует, да только сказать не может, а что сказать не может, так за это еще больше надо алеть-то, а не бить смертный боем, как некоторые делают».
– Ну, а как же дедушка-то Пимен сохранил так долго свое здоровье? Берегся простуды что ли очень?
– И, полно, батюшка, вот что сказал! Да мы всем селом удивлялись его чудасиям. Бывало уже поздней осенью снег валит, сырь, слякоть, холод, а он бродит около дома в одной домотканой рубахе с непокрытой головой, а если нужно ему куда-нибудь идти, или ехать за деревню зимой, ну, натянет поддевку на ватке, да картузишко, а ни, Боже мой, чтобы он надел тулуп овчинный да меховую шапку. Он до того привык к холоду, что мы диву давались на его такой фокус: выпарится зимой на полке в бане до того, что как рак будет красный, потом выскочит из бани-то в чем мать родила, да прямо в снег бултых и начнет кататься по снегу-то, словно конь летом на траве, потом, не торопясь, войдет в баню, окатится и оденется.
Или вот в Крещенье, это он за обязательство почитал, непременно выкупается в проруби три раза, какой бы холод ни был, и ни разу не случалось, чтобы он когда-нибудь простудился после этого купания. Бог силы, говорит, прибавляет, когда выкупаться в Крещенье-то!
Так вот он каков был, дедушка-то Пимен у нас!
В это время подбежал к нам мальчуган лет шести.
– А, Ванятка, тебе чего надо, зачем с гумна-то прибежал?
– Да меня, дедушка, прислали за квасом; уж больно там уморились, домой то не скоро, а квас весь вышел, вот они и прислали меня.
– Ну, так поди нацеди на погребнице в кувшин!
Мальчик побежал.
–Постой-ка, постой, постреленок, вот что: забеги сюда, да проводи вот господина на гумно, он к нам приехал.
Мальчик скоро воротился к нам с полным кувшином холодного кваса.
«Ну вот, родимый», – обратился дедушка ко мне, – Ванятка-то тебя и проведет на гумно, там лучше, чем со мной стариком здесь сидеть на завалинке».
Мы прошли через огород, еще полный всякими овощами, на гумно. Не доходя еще далеко до гумна, стали слышны какие-то отрывистые звуки, которые по мере приближения становились яснее.
На гумне работа кипела. Силантий, уже очень пожилой, но здоровенный мужик, в одной рубахе с расстегнутым воротом, «хлыстал» рожь. Это делалось так: посреди гумна, отлично утрамбованного и чисто подметенного, лежал толстый обрубок дерева. Силантий, взяв сноп ржи, со всего размаху ударял колосьями об этот обрубок, не переставая раз за разом; зерна из сухого снопа падали обильным дождем на чистое гумно, так что около обрубка образовалась большая куча хлебных зерен. Увидя меня, он остановился хлыстать, поздоровался и хотел идти со мной в избу, ноя, сказал, что мне не к спеху и я переночую у него, так что торопиться нам не к чему. Он, как я заметил, был этому очень рад, конечно, боле тому, что я его не хочу отрывать от дорого дела, а не тому, что я у него ночую, а может быть и тому и другому по своему добродушию и гостеприимству, но как бы то ни было, но Силантий тут же стал продолжать прерванную работу, предварительно с наслаждением напившись принесенного Ваняткою квасу.
Между тем младшие дети Силантия – подростки, носили с наружного гумна тяжелее снопы совершенно сухой ржи, а вымоченная рожь все прибывала в ворохе около обрубка дерева.
Глядя на эту работу, мне стало вполне ясно, что самая необходимая, самая почетная работа есть та, которую сейчас делает Силантий. От последнего идиота до гениального ученого профессора, от простого пастуха до величайшего изобретателя в мире техники, от бедняка, питающегося гнилой коркой хлеба, до миллионера, которому надоело все и который, чувствуя разочарование в жизни, не знает, на что направить сове богатство, все они пользуются трудами Силантия! Все ученые трактаты, все мировые изобретения техники, вся божественная поэзия и вдохновенное искусство без Силантия – ни что! Все завянет и погибнет без результатов Силантиева труда!
Как же нам не быть почтительными к Силантию и не считать его хотя бы равным себе! Куда тут!
Скажите по совести: многие ли из нас окажутся настолько храбрыми, чтобы подать руку, когда мы находимся в кругу интеллигентных сотоварищей, подошедшему в лаптях и домашнего изготовления армяке, Силантию?
Я уверен, что едва ли хоть один из сотни найдется такой храбрец, а остальные едва удостоят небрежным кивком головы, ответив на его низкий поклон.
В подобных размышлениях я не только не заметил, как прошло время и сколько его прошло, но только я очнулся от скрипа подъезжающей телеги. Я вышел в передние ворота и увидел подъезжающий воз со снопами ржи. На возу сидела девочка лет 9 с венком из васильков на кудрявой головке. За возом шел еще совсем молодой мужик, сын Силантия, Сергей, рядом с ним шла его жена, почти одних лет с ним, позади ее шла девушка лет 18, дочь Силантия.
– Ну, вот и наши приехали! – сказал Силантий, оставив работу, чтобы встретить воз.
– Что не все, а где же мать с Петрухой и Марьей?
– Да они дожинают на дальней полосе, осталось всего снопов пять, не больше, пока мы разгружаем воз, они и подойдут.
– Ну тогда разгружайте, а я тем временем дохлыщу вот этот пяток снопов, а тут гляди подойдут наши, тогда вместе и пойдем домой, а то уже ведь и притомились, что и говорить, работавши-то с зари, пора и честь знать.
Работа снова закипела усиленным темпом, ввиду предстоящего скорого отдыха. Да уж и надобно было кончать, так как начинало темнеть, и все равно через полчаса работу нужно бы бросать вследствие полной темноты.
Действительно, приблизительно через полчаса вошли в сарай пожилая женщина, жена Силантия, ее сын, парень лет 19, и подросток-девушка, ее дочь. Все трое, утомленные и мокрые от пота, поздоровались со мной, по-деревенскому обычаю низко поклонившись. Силантий тем временем дохлыстал свои снопы и вытирал мокрый лоб рукавом своей домотканой рубахи. Все наскоро стали прибирать на гумне. Снопы, которые были снаружи гумна, внесли в гумно, все гумно чисто вымели, разлетевшуюся рожь собрали в один общий ворох, все хозяйственные принадлежности: грабли, лопаты, метлы и т.п. прибрали к месту и стали запирать передние ворота. Я поднялся, чтобы идти со всей семьей к дому.
Ванятка, между тем, уже успел со мной подружиться и вился около меня вьюном, тем более его располагало к дружбе со мною, что я ему подарил большую красивую конфету. Его восхищению предела не было и потому ему хотелось чем-нибудь хорошим отплатить и мне. Когда мы шли по траве через огород к дому, он подбежал ко мне, потянул за рукав и таинственно зашептал: «Дяденька, а дяденька, подь-ка со мной, я тебе найду какую морковь, я один знаю: большая, пребольшая, красная, как кумач, а сладкая какая, – настоящий сахар, я тебе сейчас вырву, ужо после ужина, куда хорошо будет! Да пойдем лучше вместе!» И он потянул меня с тропы в гряды. Чтобы не огорчить мальчугана, пришлось идти с ним вместе. Сорвавши действительно две славных моркови, мальчуган потянул меня опять с собой. «Постой, дяденька, вот тут через грядку есть репка, тоже ой, ой какая сладкая да сочная, надо ведь и ее отведать. Тятя ей Богу не заругается, я знаю».
Чтобы показать мне особенное внимание и любезность, было решено напиться чаю, и самовар был торжественно поставлен, а ставился он весьма редко, только в особо выдающихся случаях, например: в престольные праздники, при дорогих гостях, иногда в воскресенье. Как бы то ни было, но пузатый самовар зашипел на столе и 2-3 кусочка сахара, осторожно расколотые на крупинки, красовались по середине стола. Жена Силантия внесла пяток румяных крупных яблок.
Я спросил: «А что, Силантий Софронович, яблочки-то у тебя из своего сада?»
– Ну полно, какой у меня сад, – две яблони торчат, да у нас ни у кого садов-то нет, опричь старовера Ивана Пантелеевича Аксенова.
– Да разве в Нетронутой есть староверы? Насколько я знаю, у вас нет ни одного старовера.
– Да видь он и не старовер совсем, а так прозвание ему дали наши деревенские.
– Да, видишь ли, он у нас водки не пьет, табаку не курит, не ест убоины и рыбы, говорит как-то особенно обо всем, а уж чистота в доме какая – на удивление, по нашему крестьянскому делу особенно!
Пришлось мне быть у него на нашем деревенском храмовом празднике в гостях. Вот нагляделся-то диковинок, – удивление, да и только! У нас чем справляют праздник? Первым долгом четвертная водки на столе, я говорю на столе, а не во весь праздник, в праздник-то выходит ее, по крайней мере, ведро. Так вот, четвертная водки, а на закуску – частица самой жирной свинины, бок баранины, холодная брюшина, да еще часто плохо промытая, так что в складках виднеется зелень. Вот как выпьешь стаканчик пяток полугару-то да закусишь жирной свининой, да брюшиной с зеленью, то по неволе ошалеешь, и тебя будет тошнить. На столе-то разлитое вино, кожа от свинины, разные объедки, на полу наплевано, грязь, нечистота. В избе так накурено махоркой, что наши привычные ребятишки чуть не в обморок не падают, а сквернословие и ругань у пьяных какая, хоть святых выноси.
Как только я вошел в сени, так и то диву дался: ни соринки нигде нет, пол вымыт бело-набело, и на нем послан коврик, а уж как вошел в избу, так прямо назад попятился, не в барские ли, думаю, хоромы я попал: на окнах занавески с кружевами, стены заново выструганы, полы белые-пребелые, как будто сейчас сделаны из нового леса, и на низ большой ковер с красными и голубыми рисунками. Столы покрыты чистыми хорошими скатертями, а на окнах и на концах стола много цветов в горшках, и все-то они цветут и запах такой от них приятный, а в избе какой воздух легкий, как будто вот когда по весне черемуха цветет или сирень, то такой воздух бывает.
А Иван Пантелеевич сидел в это время у окна в новой поддевке, увидал меня, встал и говорит: «просим милости, Силантий Софронович, что там стал у порога-то, проходи вперед, или удивился, что у меня малость почище прочих мужиков, а ведь я не богаче даже и тебя, да только живу немного иначе, не даром ведь меня и старовером прозвали.»
– Да. Иван Пантелеевич, ты угадал, я прямо-таки опешил от такой чистоты, уж больно она непривычна при нашем крестьянском деле. Неужели же у тебя и в будни все также?
– А то как же ты думал, вот раз только что выскоблил стены заново, так уж это у меня непременно каждый год бывает. Просим же милости, Силантий Софронович! Проходи вперед и садись к столу, так гость будешь.
Я сел за стол с другой стороны.
– Ну, каков, Иван Пантелеевич, в настоящем году у тебя урожай плодов в твоем саду?
– Бога гневить не хочу: этот год меня порадовал – уродилось всего с избытком и плоды очень хороши. Да вот ты сейчас сам увидишь и попробуешь из плодов моего сада кой чего.
– Жена! – крикнул он в соседнюю комнату, «принеси-ка нам с Силантием Софроновичем попробовать кой чего из нашего сада.
Через несколько минут вышла к нам его жена с большим тяжелым подносом в руках, на котором в красивом порядке были разложены: крупные румяные яблоки, сочные груши, сини и красные сливы, крупные кисти белой, красной и черной смородины, а сверху для красоты лежала большая кисть винограда, конечно, купленная в городе ради праздника.
– Ну, вот нам и закуска подана с тобой, сосед. А как же на счет выпивки, жена, будет? Ведь праздник без выпивки не обходится, да и закуска-то очень хороша! Поди-ка принеси там кое-чего, сама знаешь, да и самоварчик там поставь.
Через несколько минут вошла опять жена Ивана Пантелеевича и внесла несколько разноцветных бутылок; я этому удивился и обратился за разъяснением к нему: «Как же, Иван Пантелеевич, про тебя говорили, что ты не берешь в рот хмельного, а у тебя вон сколько наливок-то наготовлено!
– Ну полно, Силантий Софронович, не всякому слуху верь, а давай-ка вот лучше выпьем!
Тут он налил два стаканчика из одной бутылки. Я выпил, думая, что у меня сейчас пойдет по суставчикам, но оказалось, что это был густой, сладкий, ароматный сок из черной смородины без капли водки.
– Ну, что, какова водочка-то? А это вот грушовка будет, тоже очень хороша, а то вот сливянки, попробуй, тоже понравится, а вот уж яблочной, так, наверное, и сам еще попросишь.
Одним словом Иван Пантелеевич, как радушный и гостеприимный хозяин, запотчевал окончательно меня.
– Так вот, какая водочки-то я тебя, Иван Пантелеевич, а я ведь думал и на самом деле у тебя спиртные наливки.
– Так что же, Силантий Сафронович, разве уж очень плохи, а я ведь старался все сам, все своих рук дело, все из своего сада, даже вместо сахара в них положен мед из своей пасеки.
– Полно, Иван Пантелеевич, обижать меня, да такой вкусной и хорошей вещи я во всю жизнь не пробовал, а он говорит, не плохо ли!
Между тем, опять пришла его жена и принесла ярко вычищенный самовар, а потом несколько сортов отличного варенья, сдобных лепешек и горшок сливок.
– Ну вот, Силантий Софронович, чем богаты, тем и рады, кушай на здоровье, да не осуди, если что не так сделано.
– Полно, Иван Пантелеевич, мне даже совестно, как ты меня угощаешь. Давно я хотел спросить, только случай не представлялся, да и боюсь прогневить тебя, скажи мне на милость, Иван Пантелеевич: почему тебя наши деревенские все старовером зовут? А какой ты старовер? Иконы как у нас, попов принимаешь, в церковь ходишь.
– Да неужели же ты не догадываешься? Очень просто: живу не по-ихнему: у них грязь, вонь, сквернословие отравляют себя и других водкой и табаком, едят убоину и рыбу при случае. У меня, как видишь, чистота: воздух хороший, сквернословие считаю нехорошим делом, водки и табаку сам не употребляю и никого не потчую ни при каких случаях. Зря губить Божью тварь: коров, овец, телят и употреблять их мертвое тело в пищу считаю и вредным и грешным, они нас любят, считают за своих защитников, в минуты опасности бегут под нашу защиту, а некоторые и жизнь свою готовы отдать за наше благополучие, а мы их встречаем за их доверие и любовь с длинным ножом, который вонзаем в их горло, а они доверчиво подставляют его, чтобы их почесали, так по крайней мере некоторые поступают при убое свиньи. Даже и на рыбу мы не имеем никакого права: мы ее не воспитываем, не ухаживаем за ней, никакой заботы об ее существовании у нас нет, а вот забота о лишении ее жизни у нас есть, а жизнью она наслаждается, как и всякое живое существо, ей даже не чужды радости любви и семейной жизни, а мы лишаем ее этой жизни, только ради удовольствия своей прихоти.
– Все правда, все истинная правда, Иван Пантелеевич, если хорошенько раздумаешься о всем этом, да как-то все невдомек было; говядина или уха и ладно, а что и как, до этого как-то разум не доходил; правда, когда свою телку, которую ты кормил кусочком, или овцу будут колоть, глядеть не можешь, в ведь на другой день ешь ее тело; ну на первый раз будто бы что-то неловко, а потом ничего – говядина и говядина, все равно; сами что ли заглушаем совою совесть или делаем это потому, что и другие также делают. Не знаю, право, как и понять!
– Полнока, Силантий Софронович! Понять это совсем не так трудно, как кажется; все по-моему зависит от воспитания наших детей и примера, который они перенимают у нас. Мы сами при них иногда очень жестоко колотим свою бабу, даем потасовки им самим, часто поощряем их драку меж собой. У нас еще до сих пор существуют бои: деревня на деревню в чистый понедельник на первой неделе Великого поста. Если случится накрыть конокрада или просто вора, то прямо бьем смертным боем, после которого едва ли этот человек проживет несколько дней. Куда не оглянись ребенок, битье и битье кругом; конечно, ребенок все это воспринимает, как губка волу, и ожесточается все более и более. Убой свиньи к Рождеству или Пасхе, ведь это целый праздник, даже их заставляют при убое держать свинью за ноги и в виде награды за труды отрезают им уши и хвост свиньи, и ребята наши, опаливши их, тут же при палении свиньи съедают почти сырыми.
Что же удивляться, Силантий Софронович, что мы грубы и жестоки, если сами делаем такой пример своим детям на каждом шагу, а они должны следовать нашему примеру.
– Как хорошо было бы, Иван Пантелеевич, если бы все понимали так, как ты это дело понимаешь! А как ты сам-то дошел до этого понятия? Сам что ли или тебя натолкнул что?
– Отчасти я и сам много думал об этом, а по большей части меня надоумили об этом вон те друзья, что стоят в уголке смирнехонько.
Я тут только заметил, что в углу на большой полке были полуприкрытые чистой занавеской с полсотни хорошо переплетенных книг.
– Да, Силантий Софронович, от этих друзей я много узнал такого, до чего не дойти бы мне своим разумом. Я узнал, например, что тело свиньи зачастую бывает заражено очень маленькими червячками, которых и не приметишь простым глазом без увеличительного стекла, но которые приносят громадный непоправимый вред съевшему эту зараженную свинину человеку, причиняя ему неизлечимую и сводящую его в могилу болезнь. Я узнал, что по устройству нашего тела, и не принадлежим к хищным животным и, поедая убоину, поступаем противно нашей природе, а потому и наказываемся за это разными болезнями нашего тела и ожесточаем и портим нашу душу. Узнавши все это и еще кое-что, я захотел испытать безубойное питание на себе, и жена на это согласилась. Сказанное моими друзьями-книгами, все подтвердилось с точностью: я чувствую себя бодрым, здоровым, жизнерадостным, а главное душа спокойна и совесть меня не мучает никогда, хотя она никогда не бывает заглушена ни водкой, ни табаком, как у других часто бывает.
– Ну, выпьем же, Силантий Софронович, по этому поводу еще вот этой малиновочки, да закусим этой сливой. Дай Бог, чтобы и другие доходили до этих рассуждений о нашей пище, особенно городские мещане, которые рады заложить последние сапоги, чтобы купить на базаре кусок гнилой солонины, или, как особо вкусное и роскошное блюдо – колбасы, в которую для придания хорошего цвета, почти всегда, прибавляют порядочное количество селитры, селитра же вредное вещество для человека. Еще не так важна ее вредность для человека, как отвратителен способ ее выделки, и я его не говорю только потому, что мы сидим с тобой за столом с пищей».2
Выпивши еще по рюмке вишневого и грушевого сиропа и закусивши фруктами и напившись чаю со сливками, я распростился с Иваном Пантелеевичем.
– Так вот он каков у нас старовер-то! Совсем не похож на нас.
Между тем самовар уже остыл, и надо было его убирать со стола.
Короткий промежуток между чаем и ужином мы провели с Силантием Сафроновичем, сидя на завалинке и переговаривая относительно дела, по которому я заехал к нему. Но вскоре нам позвали к ужину.
Ужин оказался вегетарианским: подали лук с квасом, сметаной и огурцами, потом щи со сметаной и каша с коровьим маслом. За ужином я спросил у Силантия, часто ли они колют для своего употребления скот.
– Нет, очень редко, – отвечал мне Силантий, – только к нашему осеннему храмовому празднику или зарежут свинью к Рождеству, да и то половину продадим или раздадим ради праздника соседям, а остальное время питаемся из своего огорода овощами, также есть масло, молоко, сметана, яйца, творог; все свое – не покупное, так что особой нужды в мясе мы и не видим. Только будто не принято встречать праздник без мяса.
– Ну, а кто у вам режет скот к празднику, всяк для себя что ли или один у всех режет?
– Ну, где тут каждому для себя резать! Иной сроду и не видывал, как цыпленка режут, да и не может видеть из-за жалости, а тут вдруг пришлось резать корову.
Нет, тут у нас есть один непутевый мужиченко – «Ванька Косой», бывший фабричный, ему еще челноком глаз выбило, вот он у нас и режет у всех скот. Поднесут ему стакан водки, да в придачу гривенник, он за это тебе кого хочешь зарежет. Поживши в городе на фабрике, от деревенской работы отстал, да не пристал и в городе, вот так и околачивается. Жена работает, не покладая рук за троих, а он только стаканчики да гривенники ловит. А во хмелю отчаянный какой, и не приведи Господи рассердить его, того и гляди зарежет, как борова.
Намедни какой случай бал: закрутил он сильно, с себя все пропил, что можно было, а все еще кажется мало, и подбери он ключ или так топором взломал сундук, да и стащил женину самую лучшую шубу, да и поволок к закладчику, а жена и хватилась вовремя, да в погоню за ним, нагнала его на улице, схватилась за шубу и не пускает, так что ж бы вы думали? Выхватывает Ванька длинный нож, которым скотину режет, да и закричал: «Ну, попробуй отними, так и порешу ножом-то, мигом прикончу, мне по привычке, все равно, что баба, что корова, а уж пропадать то мне все равно, я пропащий человек стал и без того». Только насильно соседи обезоружили его и заперли в пустом сарае».
После ужина ребята принесли в виде десерта довольно порядочную корзину зеленых стручков гороха, моркови и репы и все это с наслаждением уничтожили.
– А что не вредно это будет для них? – спросил я у Силантия.
– Ну, полно, какой от этого вред, они и то днюют и ночуют в горохе, а что им делается, вишь ты какие крепыши – не уколупнешь.
Они у нас ничего не боятся, ни холоду, ни жару, вот теперь-то тепло, а то вот будет осень ли с заморозками, трава утром совсем белая, они хоть бы что, босиком в одной рубашке без шапки взапуски друг за другом гоняются, какой хочешь мороз отскочит. Или вот опять весной, – на улице только сделались кое-где небольшие прогалинки, а ребята, глядишь, уже, играя в ловички, друг за другом гоняются босиком и в одних рубашонках. Где грязь, где снег, все ни почем, здоровехоньки».
Время по-деревенски было очень позднее, был уже одиннадцатый час, нужно было ложиться спать, так как Силантию с семьей нужно было на утро вставать на работу до солнца, то есть часа в 3-4 утра; поэтому, захватив кое-какую одежонку, нас с Ванятко проводили спать в сарай на душистое, только что скошенное и высушенное сено, где мы с наслаждением проспали до позднего утра.
Утром Силантий с семьей, конечно, дома уже давно не было: он работал в поле, только жена хлопотала около печки, что-то стряпая. Вместо умывания мы с Ванятко сходили выкупаться в недалеко от дома протекавшую речку; затем, позавтракавши кринкой парного молока и парой яиц, я сходил простираться в сопровождении того же Ванятки на полосу к Силантию, и к полудню меня уже не было в Нетронутой.
Хорошее впечатление произвела на меня эта деревушка. Затерянная среди лесов, далеко от культуры, она отдается непосредственно природе, и природа в благодарность за доброе платит хорошей монетой. Обитатели деревни сильны, здоровы, красивы и долговечны; они никогда не страдают развинченностью нервов, они не доходят до отчаяния и самоубийства при каком-нибудь несчастии, часто даже воображаемом, а не существующем на самом деле, они и не приходят в неистовство при радости. Радость и горе у них очень ровны и естественны.
Дети у них, есть настоящие дети, с детскими понятиями, радостями горями, а не развинченные и развитые в дурную сторону не по годам дети-старики, которым в 5-6 лет уже все надоело, и они не знают, куда себя пристроить и чем заинтересоваться, чтобы убить самое драгоценное, самое счастливое время в их жизни.
1 Факт, не редко совершающийся за границей; приложенная иллюстрация воспроизведена с натуры на одной из подобных «увеселительных прогулок». См. «Вегетарианский вестник» №12 за декабрь 1904 года.
2 В энциклопедическом словаре, изд. Паленкова, дозволенного цензурою 24 мая 1899г., на стр. 2142: «Селитряница – сарай, в котором выделывают селитру из кучи золы, навоза, помета, оскребков кож, крови, картофельной ботвы и т.п.п.; кучи эти два года поливают мочой и несколько раз переворачивают, после чего на них образуются налет селитры.
|


 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕГЕТАРИАНСТВО
ВЕГЕТАРИАНСТВО  МЕХ
МЕХ СОБАКИ
СОБАКИ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Видео
Видео  Фото
Фото  Книги
Книги  Листовки
Листовки
 Закон
Закон  НОВОСТИ
НОВОСТИ
 О
нас
О
нас  Как
помочь?
Как
помочь?
 Вестник
Вестник
 СМИ
СМИ
 Ссылки
Ссылки  ФОРУМ
ФОРУМ  Контакты
Контакты 

 ПОИСК НА САЙТЕ:
ПОИСК НА САЙТЕ:











 ВАЖНО!
ВАЖНО!