 |
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 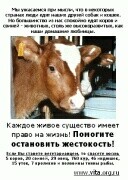
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 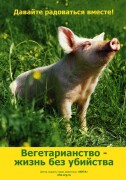
Формат jpg. 180Kb |
Вегетарианский Вестник, Киев, 1915 г. Этика или наука? Внимательно вслушиваясь в оживленные споры и нападки на автора статьи «О вегетарианстве и вегетарианцах», можно объяснить это не неожиданностью и новизной возражений против вегетарианства, приводимых автором, а именно его личностью и его бывшей приверженностью к вегетарианскому миросозерцанию. Ведь все отлично знают, что с кем бы вы ни говорили о вегетарианстве, вам с первых же слов обыкновенно возражают: «Да ведь растение живет и страдает и только кричать не может, и в воздухе, и в воде вы глотаете ежесекундно миллионы жизней» и т.д. И эти доводы так широко распространены и пользуются такой несокрушимой верой в них широких масс, что все возражения обыкновенно совершенно игнорируются, лучше – наши противники часто не дают себе даже труда ознакомиться хотя бы с тем, что едят вегетарианцы – если требовать, что они думают, является чрезмерным – и с высокоавторитетным видом повторяют все те же возражения и невозможности разграничения животного и растительного царств, о бактериях воздуха и воды, о необходимости борьбы с хищниками и т.д. И вот главным образом для того, чтобы доказать высказанное наши положении о влиянии личности автора на внимание широких вегетарианских кругов к таким возражениям, которые были высказываемы много раз, только не с таким мастерством, не в столь художественной форме, мы позволяем себе привести статью, появившуюся за год до статьи «О вегетарианстве и вегетарианцах» на страницах приложения к «Вестнику знания» под заглавием «Вегетарианство и людоедство». Основным стремлением вегетарианцев автор считает стремление к сохранению жизни всего живого, и вот тут он усматривает логическое противоречие: ведь вегетарианцы тоже кушают, а «все съедобное живое, так как оно органического происхождения, а что неживое, то и несъедобно. Если можно убивать или разрушать одну жизнь, то по тому же самому праву это можно сделать и с другой, а если не убивать, так не убивать уже и никого и ничего, в кот и в чем только есть хоть какая-нибудь искорка жизни, безразлично, в активном или потенциальном (напр., в семенах растений) состоянии находящаяся. А можно ли найти себе пищу, не убивая и не разрушая какой-нибудь жизни? Нет, к сожалению, это в действительности невозможно, так как все, что мы поглощаем, все это суть разнообразнейшие проявления все той же великой и вечной жизни: и яйца, и икра,1 и хлеб, приготовляемый из разрушенных зародышей жизни, семян и всквашиваемый при помощи живых существ, микроорганизмов брожения, трупы которых после его печения остаются в нем же, и сыр, и фрукты, и корнеплоды, и грибы, и пр., и пр.. Даже вода, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим, все это полно жизни (не верите – поглядите каплю воды под микроскопом, и вы увидите, какую окрошку глотаем мы под видом чистой воды)». Искреннему вегетарианцу, по мнению автора, остается питаться только «дистиллированной водой и каким-нибудь химическим препаратом. Да и для этого он должен предварительно поместить себя под стеклянный колпак, воздух под которым должен быть очищен от всех находящихся в нем микроорганизмов». Заканчивается все это пожеланием, «чтобы те – по всей вероятности, добрые, мягкосердечные и не озлобленные – люди, какие теперь интересуются вегетарианством и пропагандируют это учение, занялись сперва пропагандой того, чтобы прежде всего прекратили то «людоедство», которое так часто наблюдается вокруг нас». Останавливаясь на этом возражении, так как его выдвигает и И.Ф.Наживин («сперва люди»), и не говоря уже о том, что в жалости к животным, стремлении не отнимать у них жизнь для пищи заключается залог невозможности участия таких людей в «людоедстве», мы не можем не указать, что возражение это неуместно, кроме того, еще и потому, что раз не доказано, что вегетарианство как учение о запрещении убийства для питания совершенно несостоятельно, то бесполезно указывать на уничтожение «людоедства» как более неотложную задачу, а если на время и забыть это, то нельзя не указать, что по уничтожении «людоедства» все равно пришлось бы взяться за вегетарианство. Так не лучше ли сделать это одновременно с уничтожением «людоедства», теперь же? Вообще удивительно, к каким только неожиданным выводам не приходят люди, защищая что-либо удобное для их страстей и привычек! Казалось бы, раз делается что-нибудь хорошее, то не все ли равно, будет ли этим искоренено всякое зло на земле или нет? И почему же именно вегетарианство должно принять на себя эту задачу. И не удивительно ли, как древни те возражения против вегетарианства, которые живут в массах и теперь. Плутарх, касаясь этого вопроса, выражается так, что можно заключить, что довод «сперва люди» существовал и в его времена. Восставая против убийства животных для пищи, он считает вегетарианство необходимым «хотя бы только для упражнения в человеколюбивом обращении с людьми». Но такая сама по себе очевидная мысль, по-видимому, непонятна для многих. Если это искренне, то можно лишь пожалеть, но говорить долго об этом, право, не стоит. В заключение автор этой статьи замечает: «Я пишу это не потому, что я противник вегетарианства вообще или очень люблю мясо и не могу с ним расстаться. Нет! Принципиально я сочувствую этому симпатичному движению, а мяса почти совсем не употребляю в пищу, но только, конечно, совершенно по другим соображениям. А пишу я все это только для выяснения истины». «Истина краше солнышка», – невольно вспоминается нам конец статьи И.Ф.Наживина, но как далеко внутреннее содержание этой фразы у него и у автора цитируемой заметки. Несколькими строчками выше он спрашивает: «Что же такое представляет собою современное вегетарианство, как только некрасивую идейную забаву сытых и праздных людей, не имеющую вдобавок особенного этического значения?» Возвращаясь к статье И.Ф.Наживина, нельзя не отметить, что она касается главным образом той группы вегетарианцев – правда, очень значительной, – которую обыкновенно называют толстовцами, так как только эта группа, следуя учению Л.Н.Толстого, считает вегетарианство «первой ступенью» на пути к самоусовершенствованию и признает главной основой вегетарианства этический принцип «не убий», особенно ярко и последовательно проведенный В.Г.Чертковым в его брошюре «Жизнь одна».2 Но толстовцы являются только более или менее значительной группой среди вегетарианцев, в силу исторических условий имевшей большое влияние на развитие вегетарианства в России и с точки зрения некоторых строго последовательных вегетарианцев в дословном значении этого слова, как приверженцев растительного питания, являющейся только группой, примыкающей к вегетарианству и во всяком случае не выражающей его вполне, тем более что учение вегетарианцев-гигиенистов, завоевывающее все большее число приверженцев, выдвигает как его основу не этику, а науку. Поэтому несомненная заслуга статьи И.Ф.Наживина состоит в том, что появление ее резко подчеркнуло различие двух главных течений в русском вегетарианстве – этического и гигиенического, различие хотя и сознававшееся, но до сих пор не формулированное с достаточною полнотою и ясностью. Л.К. 1 Автор почему-то думает, что икра также относится к пище вегетарианцев. В начале статьи он даже утверждает, что «современное вегетарианство запрещает питаться мясом животных, при умерщвлении которых мы видим ясные признаки страдания, но мясом рыб… икрой рыб… питаться разрешает». Это нередкий пример самого смутного знакомства с вегетарианством у его противников.2 Издание «Посредника».
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































