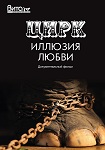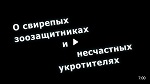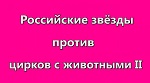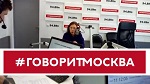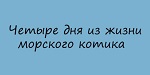|
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 
Формат jpg. 180Kb |
| Вегетарианское обозрение, Киев, 1910 г. Охотничьи воспоминания Сколько я себя помню, я всегда был окружен охотниками. И отец мой и старшие из двоюродных братьев, среди которых протекало мое детство, - охотились. Нам же, меньшим мальчикам, хотелось быть похожими на больших, хотелось курить как они, хотелось охотиться как они, и мы, за неимением ружей, собак и городской дичи, воображали себя дикими индейцами и охотились на кошек, т.е. подвергали их преследованию, всевозможным мучениям и иногда смерти, доходя при этом до невероятной жестокости. И не смотря на это, помню случай, что мы нашли больную кошку, приютили ее, кормили и в то время как ранили и истязали других кошек, прилагали все старания, чтобы эта кошка поправилась, и когда она действительно выздоровела, мы были очень довольны и торжественно отпустили ее на свободу. Таково детское сердце: в него сеются семена и милосердия, и жестокости, и, кажется, дело воспитания возращать одни семена и уберегать от других, но… какое же у нас воспитание. Когда я стал взрослым, я предался настоящей охоте, т.е. систематическому ожесточению своего сердца. Жизнь всякого охотника полна жестокостей в обращении с животными, жестокостей, к которым и он и другие так привыкают, что и не считают их предосудительными. Надо, чтобы переменился взгляд на всю жизнь, на человеческое поведение, чтобы именно грубость и черствость сердца стала в твоих глазах самым гнусным пороком, - и тогда только охота с тем морем страданий, который она вносит в животный мир, и с тем огрубением, которое она вносит в человеческие сердца, - получила бы свою надлежащую оценку.
В памяти моей особенно живо рисуются три случая из моей охотничьей
жизни.
Я встал с ружьем около березового ствола, отоптал вокруг себя
снег ожидал. В это время лестные сторожа в маленьких саночках-скачках
объезжали то место в горах, где были замечены козы, стараясь направить
их на нас. Вдруг вдали, на фоне снежного склона горы, показалось
стадо из 6-7 коз, которые издали казались маленькими и быстро,
очень быстро промчались мимо нас. Я думал, что охота пропала,
что козы уйдут от нас. Но, вероятно, стадо наткнулось на кого-нибудь
из объездчиков и разбилось, потому что спустя некоторое время
на вершине лежащего перед нами холма показалась одна коза и понеслась
прямо на линию охотников между мною и моим соседом. Я выстрелил
в нее, и она тут же упала. Я бросил ружье и побежал к ней. Коза
была ранена, но не смертельно, кажется, в ногу. Зная, что дикие
козы очень крепкие животные и иногда уходят на трех ногах, и боясь,
что и эта коза уйдет от меня, я бросился к ней, оседлал ее бьющееся
тело и стал с ожесточением бить ее кулаком по голове, думая лишить
ее этим чувств и забывая, что лоб ее такой же прочный, как у барана.
Кто-то из подбежавших охотников остановил меня и ножом зарезал
козу. Через час рука у меня вспухла как подушка. Года два спустя мне пришлось охотиться на медведя в одной из северных губерний. Медведь был обложен в густом, угрюмом еловом лесу. Мы, охотники, встали в линию, а нанятые крестьяне кольцом окружили тот кусочек леса, где находилась берлога медведя. Два крестьянина-охотника, обложившие медведя, отправились на лыжах внутрь кольца и с помощью жердей и собак старались выгнать медведя из берлоги. Как только это им удалось, они выстрелом подали сигнал, и несколько десятков мужиков подняли шум и крик, линия же стрелков сохраняла тишину. Медведь подался в ту сторону, откуда не было слышно шума, и вышел на моего соседа. Тот выстрелил два или три раза, и раненый им медведь замедленным ходом прошел мимо меня. Я тоже выстрелил, и добитый окончательно, медведь ткнулся мордой в снег. В то же время, как только в ушах моих исчезло впечатление моего выстрела, я услыхал визг собаки. Оказалось, что сосед мой, стреляя в медведя, ранил нечаянно собаку, которая преследовала и задерживала зверя. Ее вынесли на дорогу. Это была небольшая, желтая, как лисица, лайка с острой мордочкой, стоячими ушами и пушистым хвостом. У нее была перебита задняя нога, и она ерзала на одном месте, орошая снег кровью. Я стал вынимать револьвер из кобуры. Крестьянин-охотник начал упрашивать меня не убивать собаку, убеждая, что ногу легко срастить. Но взбудораженная во мне энергия, направленная на убийство, не удовлетворялась одной жертвой, я направил дуло револьвера в лоб собаки и выстрелил. Зачем? Испытываем ли мы, охотники, когда-нибудь угрызения совести за истребление нами бесчисленных жизней - не говорю уже хищников и вредителей, но наших друзей - собак, наших санитаров - лисиц, ворон, сорок, очищающих землю от падали, и тех многочисленных бегающих, прыгающих и летающих созданий, которые то видом, то движениями, то пением своим украшают наше жилище - природу и которых мы не задумываясь убиваем так себе, чтобы разрядить ружье или чтобы похвастаться своим выстрелом? Кажется, что совестью мы за это не тревожимся. Но если сознание наше и не признает преступлением убивание бессловесных и беззащитных существ, то не казнимся ли мы за это неизбежным для охотников хроническим огрубением сердца, огрубением, лишающим нас высшего человеческого блага чувствовать чужую жизнь как свою и служить ей как своей. Огрубение это, производимое убийствами, очень прочно сковывает сердце и противится всякой попытке человека вернуть себе мягкость и нежность и то радостное и доверчивое состояние души, которое свойственно чистому детству. Помню, это была середина апреля. Местами лежал еще снег, но вся природа казалась уже одной огромной почкой, которая вот-вот лопнет и начнет не по дням, а по часам распускаться и хорошеть. Было время лучшее для вальдшнепиной тяги, но вальдшнепы запоздали и были редки. Постоявши на знакомом месте и не дождавшись ни одного вальдшнепа, я пошел лесом домой. Уже порядочно стемнело. Выйдя на лесную полянку, я заметил на другой стороне зайца, вышедшего на вечернюю кормежку и, по обыкновению, медленно перескакивавшего от одной травки к другой и выбирающего листики по вкусу. Он меня не слыхал. Расстояние между нами было большое, ружье мое оставалось заряженным мелкой дробью и я не мог подняться убить его, но я все-таки выстрелил. Неожиданно для меня заяц вдруг стал часто и высоко, очень высоко, аршина на 2 подпрыгивать на одном и том же месте. Мне показались комичными эти подпрыгивания, похожие на пляску. Я пошел к нему. Он, очевидно, и не слышал и не видел меня и продолжал подпрыгивать то выше, то ниже, так что я подошел вплотную и мог взять его руками и положил в сумку. Когда я вернулся домой, он был уже мертвый. Как потом оказалось, он был ранен только одной дробиной, попавшей в голову и проникнувшей в мозг, и это повреждение мозга вызвало те конвульсивные движения, которые показались такими мне забавными. Печальные воспоминания. Алькор
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!