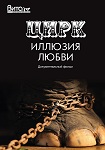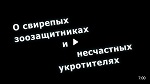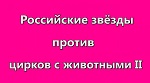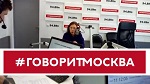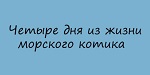|
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 
Формат jpg. 180Kb |
| Вегетарианское обозрение, Киев, 1910 г. Воспоминание (Светлой памяти Жизненного) Не хотел я тревожить старца, не хотел паломничать и стучаться в его двери наряду с любопытными англичанами, жадными газетчиками и нуждающимися странниками, хотя я жил с ним в близком соседстве около 10 лет и он знал об этом. Не хотел я ему надоедать и прилепившись к его имени вить венки на свою голову. Но стояла такая чарующая осень, на диво чудные, празднично-тихие, ликующие, яркие дни! Бездонное голубое небо обхватывало легким, прозрачным сводом бесконечные ряды стройных столбов: пылающих бледно-золотыми язычками ив, ниспадающих ослепительными червонными каскадами берез, расплывающихся бронзовыми купами дубов, пламенеющих широкими золотистыми грудами кленов и горящих вызывающим багрянцем осин. Меня как будто манило, звало в тихую пристань Ясной Поляны, отдохнуть от суеты и приобщиться к жизни, упиться светлой красотой ее, освежить ее блаженством полное радости сердце. И вот я налегке, как летом, в одежде хуторянина отправляюсь туда. Меня приветствуют и провожают сияющее небо, сверкающая даль и искрящиеся леса. Разве вместить мне всю прелесть, весь свет пути!? Я захожу к Марье Александровне Шмидт и беседую с ней в скромной хате ее, копаюсь в ее саду; я заглядываю к Ивану Ивановичу Горбунову, к Владимиру Григорьевичу Черткову с их семействами, чуть не слепну от лучей солнца, отражающихся в этих массах расплавленного золота, чуть не задыхаюсь от восторга, воспринимая всем существом своим необычайный праздник природы. Но вот я перехожу железнодорожную линию и сквозь пылающие гущи пробираюсь к высоким черно-зеленым стенам елей Засеки, а вдоль них к Ясной Поляне. Вон она виднеется на бугре, чуть не утопая в блеске золотой осени, в горниле лучей вечернего солнца. Перед массивными белыми башенками я останавливаюсь, но продолжаю путь, чтобы поздороваться с Сергеем Дмитриевичем Николаевым и его семьей - они живут в деревне - а потом поворачиваю и медленно иду по графской аллее, миновав башенки и пруд. Лучи потухают, золото тускнеет, длинные тени ложатся поперек пути. Я двигаюсь в раздумье, я как-то смущен, стеснен. Благоговение ли это, или только робость и застенчивость на новом месте? Но вот я перед фасадом белого дома и его клумбами и ищу дверь. Подъезд, оказывается, с другой стороны. Я подхожу и стучусь. Дверь отворяется наконец на цепи и лакей спрашивает меня, кто я и чего желаю. Я называю свое имя и заявляю, что пришел к графу. Дверь растворяется после каких-то внутренних переговоров и меня впускают. Наступил уже осенний вечер и в передней с библиотечными шкафами горит лампа. Я долго жду в напряженном настроении и начинаю сомневаться, уместно ли мое посещение. С лестницы-площадки спускается наконец Николай Николаевич Гусев и просит меня еще подождать, - Лев Николаевич читает какую-то книгу и непременно хочет ее сперва закончить, а потом уже принять меня. Мое волнение не прекращается. Выходит доктор Душан Петрович Маковицкий, зовет меня в свою комнату внизу и рассказывает мне о своей судьбе, приведшей его в Ясную Поляну и о здоровье Льва Николаевича. В самый разгар разговора входит Гусев и сообщает, что Лев Николаевич кончил книгу и зовет меня наверх. Я не могу сразу оборвать разговор и отвечаю доктору на его расспросы о моих делах, а Гусев делает мне досадно замечание, что я ведь пришел к графу, а он ждать не любит. Не кончая, я раскланиваюсь и мы поднимаемся наверх. Я вхожу в рабочий кабинет, весь увешанный портретами и картинами и уставленный столами и книжными этажерками, а хозяин поднимается мне навстречу, великий, доброжелательный, приветливый, и тотчас опять садится, чтобы вытянуть на стуле свою больную ногу. По распоряжению врача он должен ее держать в горизонтальном положении. Как ласково смотрят его глаза из-под густо-нависших бровей, его бодрые, ясные, пытливые глаза. Прямо и просто глядят они, откровенные, добродушные, невинные, как глаза ребенка. Гусев уходит. А он спрашивает меня, сгорбившись, опираясь на локти, о моем житье-бытье, о моем семействе, о моих взглядах и намерениях, о моей земле. - "Хорошо сделали, что бросили город и сели на землю! Продолжайте идти этой дорогой и не беспокойтесь, если Вы поступаете по совести! Она Вас оправдает - пусть другие говорят, что хотят! И детям так лучше. Привыкнут к работе, к настоящей простой жизни. Об образовании не заботьтесь, - всегда успеется. Да старшим оно легче дается. Учите их сами - Вы можете это сделать! А там посмотрите, что они скажут и хотят ли продолжать - теперь ведь они довольны! Упреками родных не смущайтесь. Никто не обязан идти против своего убеждения. Но земли у Вас слишком много. На что Вам столько?" - "Мне кажется, что слишком мало!" - "Слишком много, говорю я Вам! Вон у крестьян 2-3 десятины". - "Ну, где мне с крестьянами тягаться? Какие у них потребности?" - "А Вы сократите свои, опроститесь". Входит Софья Андреевна и он представляет ей меня. Окинув меня любознательным взглядом, она уходит и мы слышим скоро, как она играет на рояли в четыре руки с приехавшей соседкой, поклон которой она передала мужу. Но вот она возвращается и спрашивает, не сыграть ли еще что-нибудь, да из новых композиций. - "А что вы сейчас играли?" - "Из Генделя". - "Ну, так, продолжайте, пожалуйста из него же, если есть еще что-нибудь!" И Софья Андреевна уходит играть, чтобы через полчаса вернуться с предложением винограда, - который отклоняется до вечернего чая. Гусев возвращается и участвует в разговоре. Вспоминаются разные друзья и посетители, разные сектанты и писатели писем, разные происшествия, встречи и столкновения, и тут заметно, что память иногда изменяет Льву Николаевичу, что он уже не может точно разграничивать времена и лица. Но он сдается не без боя и мы противоречим осторожно умиленно. А потом он предлагает втроем разобраться в залежавшейся корреспонденции и Гусев приносит груду писем. Тут письма и бедных русских евреев и немецких баронов, австралийских овцеводов и американских парламентариев, английских клерков и австрийских биржевиков, французов и индейцев, пиетистов и художников, наездниц и философов, - как будто руки и сердца со всего света тянутся сюда, в Ясную Поляну, все токи стекаются в этот центр. Мы справляемся с ворохом, читая вслух эти письма и разделяя их по указанию Льва Николаевича на такие, которые требуют ответа или отправки автограммы, если не карточки с автогрммой, и такие, которые не заслуживают ответа, как присланные без марок или с невозможными желаниями и требованиями. Понемногу куча убывает и наконец Лев Николаевич, встав и потирая себе руки, говорит с довольной, молодой улыбкой: - "Ну, кончено, - достаточно на сегодня! А здорово ведь занялись - на харчи заработали!" И он смеется беспечно. Нас зовут к чаю. Лев Николаевич пропадает на минуточку, а Гусев идет со мной в столовую. В большой, белой, трехсветной комнате накрыт длинный стол. Софья Андреевна с родственницей встают из-за рояля и садятся к левому концу стола, где стоит сыр, посредине стоит большая ваза с виноградом, на другом конце - мед в сотах и самовар, к нему присаживается экономка разливать чай. В левом углу стоит маленький стол с большой лампой, а вокруг него кресло Льва Николаевича и другие кресла; по стенам развешаны семейные портреты. Вот появляется Лев Николаевич, садится за самоваром и придвигает к себе мед и какие-то две бутылочки, из которых подливает себе к чаю. Я сажусь к середине белого стола. Александра Львовна сидит напротив и своими большими ясными глазами отца со скрытой улыбкой на полном лице испытующе смотрит на меня. Вышедший Гусев возвращается с Маковицким и они садятся между Александрой Львовной и графом. Но когда Маковицкий отлучается на мгновение, Софья Андреевна встает и садится на его место. Возвратившись, он садится по другую сторону Александры Львовны, а Софья Андреевна замечает немного остро: - "Ах, кажется, я Вам помешала! Я всегда всем мешаю!" - "Нисколько!" отвечает он. Лев Николаевич спрашивает о движении вегетарианства в других странах, о моем переходе к этому учению. Софья Андреевна заявляет, что она ради единства стола стала вот уже третий год придерживаться того же режима, но не придает ему никакого значения. - "Эка важность - еда! Не все ли равно, что есть?!" Я отвечаю, что дело, пожалуй, не в пище, а в добывании ее. Софья Андреевна не возражает, но через некоторое время возвращается к своей мысли. Лев Николаевич вмешивается немного нетерпеливо, наставительно: - "Ведь, кажется, им сказано уже" - он кивком указывает на меня - "что суть не в составе пищи, а в способе добывания ее! Что-то жарко, не открыть ли нам окно?" - прибавляет он. Александра Львовна встает и распахивает окно и легкое, теплое дуновение ночного воздуха проносится по комнате. - "Что за ночь!" восхищается Лев Николаевич, вдыхая свежую струю, - "летом такой не было"! Разговор переходит к воспитанию детей и к анкете германских женщин по этому вопросу. - "Вот обратились бы ко мне" - говорит Софья Андреевна. "Не мало я их выходила и могла бы дать полезные сведения, как родильницам, так и кормилицам!" Александра Львовна, Маковицкий и Гусев почти все время молчат, да и Лев Николаевич редко перебрасывается несколькими словами. Потом он встает и садится в свое кресло под большую лампу, принимаясь читать какое-то письмо, которое всех интересует. Забывшись, он на минутку опускает свою больную ногу со стула на ковер. Маковицкий вскакивает и кладет ее на стул. Лев Николаевич извиняется и благодарит. Я встаю и раскланиваюсь с ним. Он приподнимается, протягивает мне руку, трясет мою и просто и сердечно высказывает мне свею радость и благодарность по поводу моего посещения. Я прощаюсь с остальными не менее тепло, с чувством человека, прекрасно, без тени недоразумения проведшего вечер, и выхожу. В открытое окно тянет за мною необыкновенным теплом. Гусев меня провожает донизу, и передает мне "Круге чтения" и "Учение Христа" (для детей), как подарок Льва Николаевича, а доктор, сошедший вместе с нами, выходит из своей комнаты и сует мне в карман несколько яблок. - "На дорогу! Небось проголодаетесь!" И мы расстаемся, как люди, понявшие и полюбившие друг друга. И вот я опять иду по темной, бесконечной, таинственной аллее; обвеян сказкой теплой октябрьской ночи, глядящей на меня миллионами звезд, я, как будто забывшись, отсутствую и в виде сна переживаю еще раз весь вечер. Шагаю я иначе - окрепший, бодрый, как будто окрыленный, приподнятый, упоенный чарами скромно-гордого величия. Сердце бьет через край и думы, мечты и надежды роятся без конца. Пока он жив, нам нечего бояться, нечего сомневаться - всю Россию он заслонит собою, как богатырь былины, осенит он миром, как древо жизни... Ф.Р. Герман
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!