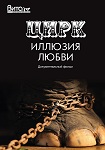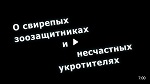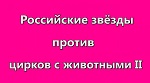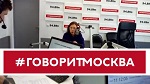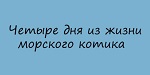|
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 
Формат jpg. 180Kb |
Вегетарианское обозрение, Киев, 1911 г. ВО.1.3.4.5.6-7.8.9-10 1911 Толстой (воспоминания и думы друга) ВО.1.1911, с. 1-13 Первое знакомство и секретарство I То, о чем я собираюсь рассказать, составляет святая святых моей жизни. Я никогда не стал бы говорить об этом публично, если бы не моя глубокая уверенность в том, что всякий, знавший великого учителя обязан сказать о нем миру всю правду. Знакомство мое с Львом Николаевичем началось не совсем обыкновенно. Весной 1899 года, на далекой окраине Сибири, на берегу Японского моря я потерял отца. Мне было тогда 17 лет. Я уже года три читал Толстого, начав с первого тома, и за "Детство и Отрочество", "Войну и Мир", "Анну Каренину" всей душой любил и уважал мирового писателя. Педагогические его статьи окончательно покорили мое сердце, и я с захватывающим интересом взялся за следующий, 13 том. На третий день после похорон отца я почувствовал, что нервы мои успокоились и стал перелистывать эту книгу. Заглавие "Последние главы из книги о жизни" поразило меня. Где же были первые главы?! Перелистывая дальше, я наткнулся на главу "Страх смерти" и стал читать. Я был так глубоко потрясен, что вскоре должен был оставить чтение. Этот чуткий, искренний и исключительного ума человек, общение с которым составляло для меня такое счастье, затрагивал самые глубокие вопросы, упорно замалчивающиеся окружавшим меня обществом и смотрел на жизнь и смерть совсем иначе, чем я, выросший в естественнонаучных материалистических воззрениях. На другой день я побежал к близкому другу поделиться смутными и странными впечатлениями, от которых захватывало дух. — Что значит это странное заглавие: "Последние главы"?.. — Сказал я ему: — "Куда же девались первые? Вот если бы достать всю книгу "О жизни"... Мой друг сосредоточенно посмотрел на меня, взял меня за рукав и подвел к конторке. Он достал из нее небольшую серую брошюру. Это было "О жизни" в женевском издании Элпидина. Кроме того, в конторке оказался целый клад: "Исповедь", "В чем моя вера", "Царство Божие внутри вас", "Критика догматического богословия", "Соединение, исследование и перевод 4-х евангелий", "Так что же нам делать?" и много др. Это принес накануне моему другу знакомый флотский офицер, приобретший эти книги в заграничном плавании. Офицер этот и не подозревал, что несет подмышкой судьбу всей моей жизни. С детства я любил и искал истину, и мне не нужно было повторять ее дважды. Через месяц я навсегда оставил гимназию, а еще через три послал Льву Николаевичу пространное письмо, в котором выразил свое полное согласие с ним, великую благодарность и уважение, и спрашивал совета о том, как устроить свою жизнь. Спустя два месяца я получил следующий ответ: 28 ноября 1899 г. "Неизвестный молодой и любезный друг, получил ваше письмо в то время, как лежу больной в постели, но все-таки хочу хоть несколькими словами ответить вам, так оно, ваше письмо, искренне, задушевно и мне радостно. Одно только пугает меня – это ваша большая молодость; не то, чтобы я думал, что молодость мешает вам вполне и правильно понять самые нужные для жизни истины; напротив, по вашему письму я вижу, что вы вполне усвоили себе и совпадаете центром, и вследствие этого и всеми радиусами с истинным христианским мировоззрением. Но меня пугает ваша молодость потому, что еще много из соблазнов мирской жизни вами не изведано, вы не успели увидать тщету их, и они могут увлечь вас и заставить отказаться от истины; и еще потому, что под влиянием горячности молодости, вы можете сделать ложные шаги по истинному направлению и вследствие этого разочароваться в самом направлении. Подобные случаи, к несчастью, часто бывали. Так вы задаете, например, мне вопрос, что вам делать, как практически устроить свою жизнь? Вам кажется, что до тех пор, пока ваши новые взгляды не осуществились в видимых проявлениях, вы не исполнили своего дела, как бы отступили от своей обязанности. Не торопитесь накладывать новые формы на свою жизнь, употребляйте только все силы души на то, чтобы новые взгляды проникли все ваше существо и руководили всеми малейшими поступками вашими; а если это будет, то старые формы жизни неизбежно изменятся, — хотя мы никак не можем предвидеть, во что, — и установятся новые. Это подобно тому, как часто, растапливая костер или печь, слишком рано и много накладывая дров на плохо разгоревшиеся подтопки, тушишь последний огонь, вместо того, чтобы разжечь его. В вашем частном случае я, разумеется, ничего практического не могу посоветовать вам; практическая форма вашей жизни пойдет по равнодействующей между вашими привычками и требованиями окружающей среды и вашими убеждениями. Одно очень советую вам: это помнить, что более и что менее главно; самое же главное при ваших теперешних взглядах это то, чтобы увеличивать любовь вокруг себя, тем более не нарушать ту, которая существует. И потому, если, при осуществлении ваших планов, представится вопрос: оставаться ли против своей воли в условиях, противных вашим убеждениям или, выйдя из них, нарушить любовь, то всегда лучше избирать первое. В числе книг моих, которые вы читали, вы не упоминаете о "Христианском учении". Я бы вам прислал его, но не имею в настоящую минуту, а думаю, что оно может вам быть полезно. Я думаю, что вы можете приобрести его, равно и другие запрещенные мои писания, из Англии от Черткова по следующему адресу: Англия, England, Essex, Maldon, Purleigh. W. Tchertkof. Вы угадали, что мне радостно узнать о том, что у меня есть друзья на Дальнем Востоке. Главное же то, что писания мои, доставившие мне так много счастья, доставляют такое же и другим, хотя и редким людям. Я не разъясняю вам те, верно указанные вами противоречия в моих сочинениях: некоторые я бы и мог разъяснить, другие же так и остаются противоречиями, объясняемыми тем, что разные вещи писаны в разное время и соответствуют разным мировоззрениям. Главное же надо помнить, что буква мертвит, а дух живит». Письмо было написано, как я узнал после, Софьей Андреевной и только поправки и подпись были сделаны рукой Льва Николаевича. Потеряв плотского отца, я обрел духовного. На следующую весну мне пришлось побывать в Москве. Не найдя там Льва Николаевича, я поехал в Ясную Поляну. Утром, после грозы, когда первые лучи весеннего солнца заблестели в каплях росы, покрывавших траву и деревья, я стал перед верандой у "дерева бедных". Вдруг высокая фигура Льва Николаевича в парусиновом халате выросла у перил и серые пытливые глаза уставились на меня. "Я не знаю, кто вы"... — проговорил Лев Николаевич в ответ на мое бодрое, радостное приветствие, и тучка страдания пробежала по его лицу. Я обрел счастье, о котором не смел и мечтать, а для него это был стотысячный посетитель, который, быть может, сейчас начнет просить о чем-нибудь невозможном тяжело-осуществимом. Только впоследствии я понял это, тогда же я слегка удивился. Лев Николаевич хорошо помнил меня. Он повел меня в дом и дал свои новые произведения. Вечером водил меня к живущей в 6-ти верстах М.А. Шмидт, близкому своему другу, и с той поры близкие сношения мои с Ясной Поляной не прерывались. Я несколько раз приезжал и жил в ней и близ нее, изредка писал Льву Николаевичу, а еще реже, в особенно трудных случаях моей жизни, или просто в ответ на письма получал разнообразной величины кусочки бумаги, сплошь покрытые дорогим веревочным почерком и пропитанные такой любовью и вниманием, которые я получал только от своих родных. Летом 1906 года, живя подле Ясной Поляны и часто бывая у Льва Николаевича, я получил от Софьи Андреевны приглашение пожить у них несколько месяцев и помогать Льву Николаевичу в его обширной переписке со всеми странами света. Тут мне пришлось увидеть всю интимную жизнь Льва Николаевича. Меня с первых же шагов немало удивило то обстоятельство, что настоящего, платного секретаря у Льва Николаевича никогда не было. Он считал свою деятельность настолько пустячной, что, охотно принимая помощь друзей, он никогда не соглашался нанять себе помощника. Работы было по горло. Писем приходило до 15-ти в день, в среднем, я думаю, 4-5. Все эти письма надо было занести в книгу "входящих" и пронумеровать. Отвечал Лев Николаевич только на очень редкие письма, на некоторые он просил близких ответить, огромное же большинство просто складывалось в шкаф. Помню, в первый же день, ответив по поручению Льва Николаевича, на два, три письма, я отобрал еще пять, которые вполне заслуживали ответа, и, улучив минуту, спросил об этом Льва Николаевича. "Ну что же – сказал он, – если милость ваша будет, ответимте", и тут же дал мне указания, выражая опасения, что у меня и так много дела. Дела действительно было столько, что вполне хватило бы на троих. В то время поступало множество просьб о высылке книг Льва Николаевича, и каждый день приходилось по указанию Льва Николаевича набирать несколько посылок, зашивать их и записывать содержимое. Адресной книги не было и пришлось начать ее составление. Кроме того, постоянно приходилось делать выписки из книг или спешно переписывать большие рукописи Льва Николаевича. Из семейных только Александра Львовна ежедневно переписывала на ремингтоне писания Льва Николаевича; Мария Львовна, приезжавшая иногда погостить, отвечала на письма, сверяла копии с оригиналами, да Софья Андреевна записывала во множестве присылаемые книги в каталог и иногда переводила что-нибудь с английского для Льва Николаевича. Остальные, когда приезжали, жили совершенно в стороне. В библиотеке также царил беспорядок, и хотя существовал прекрасный каталог, но помню, как однажды Лев Николаевич пять раз просил меня найти ему книгу, но ее в шкафу не оказывалось. Полный порядок был тогда только в кабинете Льва Николаевича. Я прожил тогда в Ясной три месяца. Что больше всего поразило меня из всего виденного тут, была, во-первых, необычайная скромность Льва Николаевича и его чуткая деликатность и мягкость в обращении, во-вторых, истинно-подвижническое усердие, с каким он обрабатывал свои произведения и, в третьих, его необычайная работоспособность. Мне приходилось жить с многими людьми, но только в отношениях со Львом Николаевичем я не заметил и тени трения. На третьем месяце так же, как и на первом, Лев Николаевич, несмотря на мою молодость, постоянно извинялся, когда звал меня и, если поручал что-нибудь, всегда приговаривал: "если милость ваша будет", а иногда, когда просил принести книгу, говорил: "пожалейте мою старость". Он во всяких мелочах чувствовал душу человека, с которым имел дело. В кабинете Льва Николаевича специальный стол и висящая над ним этажерка были сплошь заняты стопочками его брошюр и листков. Однажды, набирая по указанию стоявшего за мною Льва Николаевича книжечки для просителей, которые ожидали внизу, я неловко задел на полке стопу листков; эта стопа упала и толкнула другие, и одна за одной стали падать и смешиваться все остальные. Я хотел поддержать это разрушение другой рукой, но тогда несколько брошюр упали вниз, движение передалось на следующую полку, листки посыпались на стол и образцовый порядок, который мы так старательно поддерживали, в один миг обратился в хаос. "Ну, так делу не поможешь!" заметил Лев Николаевич и засмеялся своим неудержимо-заразительным смехом. С руками, занятыми уже раскладыванием брошюр, я совершенно растерялся и раз начав хохотать, не мог удержаться больше. Посетители ожидали, Льву Николаевичу надо было уходить, а между тем всякий раз, как он начинал давать мне соответствующие указания, на меня находил новый приступ смеха и икоты. Это было глупо и стыдно, но я не мог удержаться. "Что, хохотун напал?" — участливо спросил Лев Николаевич и долго спокойно ожидал, пока я прейду в нормальное состояние. Когда заболела Софья Андреевна и от съехавшихся семейных в доме стало тесно, меня переселили в так называемую маленькую гостиную. Тут в моем распоряжении оказался только один круглый стол. Пишущая машина, с десяток незашитых посылок, рукописи, письма, куски коленкора, суровые нитки, бумага, книги, клейстер – все это образовало печальную картину на круглом столе. Я напрягал все силы, чтобы не запутаться в этой тесноте. "А вы немного разбросались, сударь мой", — заметил мне Лев Николаевич, проходя в кабинет. — Я еще удерживаю в голове все нити положения, — сказал я. "Значит, беспорядок только внешний", — сказал Лев Николаевич и вспомнил какое-то меткое название, данное, кажется, его другом Орловым такому положению вещей. И бодрящий звук его голоса и внимательный улыбающийся взгляд его говорили, что и в этом ничтожном житейском случае, как и в самых значительных, он знает, как трудно человеку совладать с обстоятельствами и всегда всем сердцем готов помочь и подбодрить. Мнения о себе Лев Николаевич был самого невысокого. "Я жалкий запутавшийся старик", — сказал он приезжим англичанам, заявившим, что знакомство со Львом Николаевичем было единственной целью их путешествия. — "И не стоило из-за этого ехать так далеко". Меня удивило, что Лев Николаевич был такого невысокого мнения не только о своей практической жизни, но и о своих способностях и писательской деятельности. Недавно еще, после ссылки Н.Н. Гусева, Лев Николаевич писал мне: "Саша с своей подругой прекрасно исполняют дело записывания и приведения в порядок моего старческого radotage" (пустословия). "Le genie c'est la patience (гениальность – это терпение) — повторил он как-то при мне великие слова, кажется, Ньютона, — "говорят, у меня талант, большие способности! Да я толком письма составить не умею. А если и выходит иногда что путное, так это я трудом беру. Какая-нибудь пустячная статья, а я вот уже три месяца вожусь с ней и никак не могу кончить". (Статья эта была "О значении русской революции"). Переделывал и переправлял Лев Николаевич свои статьи бесчисленное количество раз. — "Кажется, я уже порчу, надо оставить"... сказал он однажды, подавая мне давно уже оконченную статью о революции, которую он ежедневно исправлял. Дня через два он действительно сказал Александре Львовне, что статья окончена и просил переписать ее окончательно начисто; но едва мы успели исполнить это, как Лев Николаевич вновь потребовал статью к себе и вечером Александра Львовна показала мне нашу рукопись всю перечеркнутой и изрезанной на куски. "Только немного почисти кое-где", — сказал Лев Николаевич Александре Львовне, и работа началась снова. Через некоторое время он опять заявил, что кончил. Но вновь переписанную в 3-х экземплярах статью постигла та же участь. Заваленный работой, я часто сомневался в необходимости подобных бесчисленных исправлений и с особым вниманием, насколько позволяло время, старался вникнуть в их сущность, однако я не заметил ни одного случая, чтобы исправление явно не было сделано к лучшему. Каждая корректура подвергалась такой же участи. Изумила меня и работоспособность Льва Николаевича. Я занимался только часа на три больше его, и к концу 3-го месяца почувствовал, что силы мои быстро падают, так что едва ли я был бы в состоянии выдержать еще столько же. А между тем Льву Николаевичу в то время было 78 лет. Особенно поразил меня случай с корректурой предпоследнего полутома "Круга Чтения". Это было, как мне помнится, 265 стр. в восьмую долю листа. Лев Николаевич покончил с нею в один присест, и многочисленные поправки и вставки, из которых некоторые достигали одной четвертой страницы, показывали, что он без пропуска прочел всю книгу. Правда, он вышел из своей комнаты в четвертом часу и вид у него был сильно утомленный. Переписывая нечеткие места и исправляя опечатки, я просидел за той же работой два дня. Масса писем со всех концов мира, которые стекались в Ясную и которые в эти три месяца мне пришлось прочесть, оставили на мне глубокий след. Тут были и страшные, полные трагизма случаи жизни, безысходные противоречия, из которых только несокрушимый разум Льва Николаевича мог указать выход; и хватающие за сердце сомнения юноши или девушки о том, как им относиться к той лжи, которой в учебных "заведениях" под видом науки опутывает их общество; то украдкой вынесенные из тюрем и дисциплинарных батальонов письма юношей, заживо гноимых за то только, что они не хотят быть убийцами (из 18 человек, по тогдашнему моему подсчету, умерло больше половины). Когда-нибудь будет сделано подробное исследование всех бесчисленных писем Толстого и все наиболее интересное будет напечатано. За эти три месяца моего секретарства Льва Николаевича особенно тронуло одно письмо. Пришло оно из Англии и написано было по-французски. Неведомый инженер на полстраничке почтовой бумаги в очень сдержанных, серьезных выражениях глубоко благодарил Льва Николаевича за сочинение "Царство Божие внутри вас", открывшее ему глаза и заявлял, что употребит все свои силы на то, чтобы распространять эту книгу. "Напишите ему", — сказал мне Лев Николаевич, — что я очень, очень благодарю его за его письмо и что подобные письма, которые я все-таки получаю, составляют самую большую радость моей жизни". И по напряженному выражению его лица видно было, что он глубоко взволнован. День Толстого Когда во время болезни Софьи Андреевны меня переселили в "маленькую гостиную", день и ночь только одна дверь отделяла меня от Льва Николаевича, и я с благоговением следил за каждым движением этой удивительной личности, которая так и сияла добротой и искренностью. Тут у меня возникла мысль описать обычный день Льва Николаевича. Каждое утро можно было видеть Льва Николаевича во дворе с большим помойным ведром, которое он с трудом сносил по лестнице. Вылив помои и набрав в кувшин свежей воды, Лев Николаевич возвращался к себе. Я по своей деревенской привычке вставал с рассветом и садился в уголке за собственную письменную работу. Вместе с лучами поднявшегося над лесом солнца, заливавшими комнату, обыкновенно открывалась дверь кабинета и появлялся Лев Николаевич, свежий и бодрый. "Бог помощь!" говорил он мне, ласково улыбаясь и усиленно кивая головой, чтобы я не отрывался от дела, проскальзывал в маленькую дверь на лестницу. Крадясь, чтоб не быть замеченным случавшимися нередко ранними посетителями, чтоб разговором не прервать нити своих мыслей, он пробирался в сад. В кармане его блузы всегда находилась записная книжка и, бродя по окружающим лесам, он вдруг останавливался и записывал новую мысль в момент ее наибольшей яркости. Через час, иногда раньше, он возвращался, принося на своем платье запах лесов и полей, и быстро шмыгал в кабинет, плотно затворяя за собой дверь. Иногда он заглядывал в зал, где начинали появляться первые семейные: доктор, Александра Львовна, какой-то приезжий друг. Иногда, будучи со мной только вдвоем в маленькой гостиной, он, сосредоточенно глядя на меня, делился со мною тем, что думал гуляя. Это обыкновенно были отвлеченные метафизические темы, мой глубокий интерес к которым знал Лев Николаевич; или практические нравственные мысли о господстве над собой и борьбе с страстями, которые могли быть полезны мне: мне тогда было 25 лет. В кабинете Лев Николаевич пил кофе и читал письма, наскоро отмечая на конвертах, что надо ответить или послать. Затем он выносил свой поднос с посудой и садился к письменному столу. Вставал он из-за него только в два-три часа, заметно утомленный работой. В зале его ожидал завтрак, большею частью овсянка, которую Лев Николаевич часто прихваливал мне, говоря, что более 25 лет он ее ест и она ничуть не приедается. Потом Лев Николаевич выходил к посетителям, без которых редкий день проходил в Ясной Поляне, и побеседовав с ними, близких по взглядам он приглашал остаться, а остальных наделял – кого книгами, кого гривенниками, а погорельцев из соседних деревень трехрублевками, иногда и более. Лев Николаевич получал 2 тысячи рублей в год авторских от Императорских театров за постановки "Власти Тьмы" и "Плодов Просвещения". Эти две тысячи рублей он очень экономно раздавал, часто выражая опасения, что на год их не хватит. Согласился он брать их только после того, как ему разъяснили, что в случае его отказа, эти деньги будут поступать на увеличение роскоши театров. Насколько мне известно, в этом заключался весь личный приход и расход Льва Николаевича. Покончив с приемом посетителей, что иногда бывало далеко не легко, Лев Николаевич отправлялся в дальнюю прогулку, то пешком, то верхом. Пешком он нередко ходил за 6 верст к близкому другу своему М.А. Шмидт и посидев там минут 20, порадовавшись на ее бедную трудовую жизнь, рассказав о каком-нибудь интересном письме, книге или посетителе, он, взглянув на полуторарублевые часы, на которые он обменял кому-то свои более дорогие, быстро вставал и уходил. С годами он все труднее и труднее сдерживал слезы при этих беседах: так тяжела была ему домашняя обстановка и так легко дышалось в этой одинокой избушке, с небольшим огородом, обсаженным вербами, затерявшейся среди моря ржи. Верхом он иногда заезжал верст за 15. Он любил заброшенные, едва заметные тропы, в огромных лесах Засеки. Часто он посещал соседние деревни, желая лично убедиться в положении разорившихся или погоревших или собрать сведения для какой-нибудь крестьянки, муж которой на войне пропал без вести. На прогулке Лев Николаевич со всяким приветливо заговаривал, но всегда далеко объезжал "задами" деревни и вереницы дач. Возвратившись домой, он на полчаса, иногда на час, ложился спать. В 6 часов он выходил к общему обеду. После обеда, поговорив немного с посетителями и семейными, он опять удалялся в кабинет, тщательно прикрывая за собой двери гостиной и свои. Теперь он часа два занимался легкими делами, писал письма или воспоминания и читал. К вечернему чаю он заложив руку за пояс вновь появлялся в зале и редкий вечер проходил, чтобы среди беседы с гостями и семейными Лев Николаевич не прочитывал вслух наиболее поразивших его мест из последней, только что прочитанной книги. То это были записки Екатерины II, то неподражаемое по языку и искренности "Жите протопопа Аввакума", — "Это из истории Соловьева. Я прежде когда-то читал его всего для языка, — сказал мне в один из моих приездов Лев Николаевич. — Теперь перечитываю. Замечательно!" — то новая французская биография Микеланджело, где Лев Николаевич поражается блеском слога и необыкновенно поверхностным отношением автора к своему предмету; то конфискованный перевод Шопенгауэра и прочее и прочее... Утомленный чтением и разговорами, Лев Николаевич садится за шахматы. Изредка, при наплыве светских гостей, устраивался и "винт" и часов в 11 все расходились. На другое утро, если вы взглянули бы в окно библиотеки, вы опять увидели бы Льва Николаевича на черном дворе с ведром и кувшином. Этот порядок дня решительно ничто не могло изменить, ни воскресных, ни семейных праздников никаких не существовало. Если Лев Николаевич думал поехать в "Пирогово" к своей дочери Марии Львовне, он уезжал после завтрака, окончив свою работу и тщательно уложив необходимые рукописи и книги, чтоб вечером на новом месте продолжать обычный круг занятий. На 80-м году жизни Лев Николаевич ежедневно проводил 6-7 часов за письменным столом! Только изредка болезнь прерывала его занятия. "Возьмите к себе статью, говорил тогда Лев Николаевич, — может быть Саша там еще что-нибудь почистит, а я сегодня совсем не гожусь". Это значило, что часа через два Лев Николаевич неслышно войдет в библиотеку и высыплет мне на стол десятка полтора разных форм и величины кругом исписанных кусков бумаги. "Не знаю, разберетесь ли", — мягко говорит он, кладя на стол пачку писем, на которые он ответил. В такие дни он много читает в кабинете. Иногда ложится. Так день за днем без малейшего перерыва тянется годами. Только содержание работы каждого дня постоянно меняется, полное захватывающего интереса и значения. В печати еще не появлялось обстоятельных сведений о физической работе Льва Николаевича. А между тем прежде, до моего знакомства с ним, лет до 65, а может и больше, он много и серьезно работал. Тогда рабочий день начинался у него с рассветом, и до позднего завтрака Лев Николаевич был на работе, а после шел обычный порядок. Он пилил в лесу дубы, возил и строил вдовам избы, клал печи (особенный специалист по печному делу был большой друг Льва Николаевича, знаменитый художник Н.Н. Ге, иллюстрировавший Евангелие), возил с дочерьми навоз, пахал и засевал вдовьи полосы, убирал хлеб и молотил. Каждое лето он косил сено на Яснополянском покосе на одних условиях с крестьянами: 2 копны помещику, т.е. Софье Андреевне и сыновьям, а одну себе. И это заработанное сено он отвозил наиболее нуждающимся вдовам. Как сказано в "Круге Чтения": "Чтобы милостыня твоя потом выходила из рук твоих". Я не раз расспрашивал крестьян о работе Льва Николаевича. "Мог работать", "Настояще работал" — всегда отвечали мне. А такой ответ нечасто приходится услышать от них про работу интеллигента. Когда за 10 тысяч верст от Ясной я книгу за книгой прочитывал все сочинения Толстого второго периода, я был потрясен до глубины души величием тех горизонтов, которые открылись мне и величием полнейшей искренности и бесстрашной и несокрушимой честности этого гениального ума. Когда же впоследствии мне пришлось увидать интимную жизнь самого автора, пожить и поработать рядом с ним, я был также глубоко потрясен величием его нравственной личности, которое постепенно с годами открывалось мне. Придет время, когда то и другое станет общепризнанной истиной. Причина ухода Достаточно внимательно прочесть "Так что же нам делать", чтобы понять, каким нестерпимо тяжелым крестом лежала на Толстом богатая праздная жизнь, окружавшая его. Вести жизнь наших праздных классов возможно только, пока не замечаешь тех людей, которые гибнут для поддержания этой пустой расточительности, или пока верить в то, что люди, населяющие нашу планету, двух различных пород. Когда, после переписи в Москве и знакомства с Сютаевым и Бондаревым, Лев Николаевич понял ту страшную связь, которая существует между жителями Хитрова рынка и блеском и привлекательностью жизни людей его сословия, все для него перевернулось. Во всем, что считалось в его кругу ценным украшением и усладой жизни, ему стала видна одна кровь и женские и детские слезы тех, кто в непосильном труде, в голоде и невежестве делали, перевозили и содержали это для него. С этой поры, вероятно, с самого начала 80-х годов, пребывание его в родном доме стало для него сплошной пыткой. А, между тем, изменить что-либо было невозможно. Связи были скреплены данным давно, при иных взглядах и последствия их нельзя было стряхнуть с плеч. О понимании же и уступке со стороны Софьи Андреевны не могло быть и речи, т.к. она глубоко убежденный светский человек, в котором все "чудачества" Льва Николаевича всегда вызывали только неприятное недоумение. Тридцать лет геройски терпел Лев Николаевич эту обстановку. Душевные страдания и усилия его, почти никому неизвестные, были огромны. В первые мои посещения Ясной, я, как и почти все, бывал несколько удивлен полным несоответствием окружавшей его обстановки с святая святых его души. Только с годами, тщательно, шаг за шагом, исследуя положение дела, как прежде я исследовал его сочинения, я, наконец, открыл всю тяжесть этого креста и с благоговением преклонился перед величием его жизни. — "Это хождение по острию ножа!", — не раз говаривал Лев Николаевич близкому другу про свою домашнюю жизнь. Но я ни разу не слыхал, чтобы он осуждал кого-нибудь из семейных или Софью Андреевну. Когда случалось что-нибудь тяжелое, он только приговаривал: "это все мои грехи"; про сыновей он говорил: "что же делать! в их годы я был хуже их". В 1906 году, вскоре после созыва первой думы, мы с М.А. Шмидт ходили как-то после завтрака по дорожке, между двух тесных рядов вековых лип. Рядом большое общество играло в теннис. Вдруг из кустов к нам подошел Лев Николаевич. Меня сразу поразило выражение страдания на его лице, как у тяжело больного. — "Ужасно, нестерпимо"! — тихо сказал он, наклоняясь к нам. — "Прежде, когда народ не замечал этого, еще можно было терпеть. Но теперь, когда всем это режет глаза, эта жизнь невыносима! Надо уйти; это выше моих сил"... — голос его дрогнул, и он, быстро отвернувшись, пошел продолжать свою одинокую прогулку. Вечером того же дня, когда я вошел в кабинет, Л.Н. в сумерках сидел у стенки вдали от стола, глубоко задумавшись. Я хотел тихо пройти мимо, взять для записи последние письма, но Лев Николаевич, резко махнув рукой, точно отгоняя от себя навязчивую мысль, с жаром заговорил: "для меня так ясно, что, куда бы я ни уехал, через два дня там же рядом опять появится Софья Андреевна с лакеями, докторами и все пойдет по-старому!" — Что же, Лев Николаевич, ведь и в других условиях тоже будет полно дурного, — успокоительно заметил я, весь поглощенный в то время интересом и значительностью деятельности Льва Николаевича, с которой я так счастлив был соприкасаться. — "Что вы! Что вы! Как можно!" — воскликнул Лев Николаевич, сурово хмуря свои нависшие лохматые седые брови. Я так был поглощен своим делом, что мало обратил внимания на эти разговоры. Лев Николаевич и тогда был так стар, что я не мог серьезно думать о коренной перемене жизни для него. Мне только вспомнился рассказ одного друга о том, как Лев Николаевич однажды, много лет назад, уже совсем уложил в чемоданы белье и вещи, чтобы навсегда бежать из Ясной, но после, поняв, что от Софьи Андреевны все равно не укрыться, вновь разложил все по местам. Дней через шесть после этого разговора молодые члены семьи после послеобеденного чая сидели со Львом Николаевичем на веранде. Двое сыновей, оба очень правых взглядов, жаловались на судьбу: — народ совсем вышел из повиновения, всюду поджигали, обирали помещиков, старые традиции оскорблялись... — Не остается никакого смысла в жизни, — повторяли они унылые и удрученные. Я не вмешивался в разговор, захваченный интересом переживаемой эпохи и стараясь проникнуть в душевное состояние людей чуждого мне лагеря. Лев Николаевич задумчиво слушал. — "Все это не такие большие беды, чтоб их нельзя было терпеть", — заговорил он наконец убежденно-успокаивающе, — "Каждое поколение имело свои крупные бедствия. У наших дедов это был Наполеон, прежде Пугачев, или холера, наводнение, землетрясение... У каждого поколения свое испытание, которое надо нести"... — Да, тебе хорошо говорить, — перебил его один из сыновей, — ты уйдешь, запрешься себе в кабинет и ничего не знаешь. Л.Н. заметно заволновался. "Мне так хорошо, что я каждую неделю чемоданчик укладываю!" — с совершенно несвойственной ему горькой усмешкой проговорил он, — "и вот дотерпел же до сих пор", — и он поднялся и скрылся за деревьями. Этот разговор глубоко огорчил меня. Но когда, года через полтора после этого, я приехал сказать последнее прости своему незабвенному спасителю и учителю, и месяц прожил в Ясной, я начал серьезно страдать за Льва Николаевича. В.Г. Чертков поселился в Телятниках, у Льва Николаевича был прекрасный секретарь, знавший стенографию. Всюду царил порядок; за обедом бывало больше вегетарианцев, чем мясоедов, и в Ясной чувствовалась любовная простота и близость значительного серьезного дела. Зато Софья Андревна была все время настороже, очень недоброжелательным взглядом провожала чемодан Черткова, с которым тот приезжал каждый день ко Льву Николаевичу за рукописями, и не раз заговаривала со мною о 25 внуках и о том, как на сочинениях Толстого наживаются евреи. Младшие сыновья иногда вторили матери. Однажды, к моему великому ужасу, Софья Андреевна при мне сказала это прямо в глаза Льву Николаевичу. У Льва Николаевича кровь отхлынула от лица, он сгорбился, ноги подогнулись. "Соня, и так мне справедливо тычут в нос тем, что я живу в такой роскоши; теперь ты хочешь отнять у меня последнюю честь!" — проговорил он ослабевшим от волнения голосом. Но Софья Андреевна продолжала что-то настойчиво доказывать. У меня сердце перестало биться, я выбежал из комнаты и расслышал только, как Лев Николаевич дважды убедительно произнес: "Последнюю честь!". Вероятно, не всем известны основания, по которым Лев Николаевич отказался от права собственности на свои сочинения. Вот что говорится об этом в книге "Так что же нам делать" (стр. 83). "Если книги мои вредны, то я только соблазном сделал то, что их покупают, и деньги, которые я за них получаю – дурно добытые деньги, но если книги мои полезны людям, то выходит еще хуже. Я не даю их людям, а я говорю: дайте мне 17 рублей, и тогда я дам вам их. И как там мужик продает последнюю овцу, здесь бедный студент, учитель, всякий бедный человек лишает себя нужного, чтобы дать мне эти деньги". Несколько дней я, молодой и здоровый, не мог оправиться от потрясения. Я хорошо знал уже тогда ту пучину взаимного непонимания, в которой обречены жить люди, но я никогда, не подозревал, что она так бездонна, так ужасно, безысходно непроглядна. Это было зимой 1908 года. С той поры пошло все хуже, ужаснее. Следы страданий, которые я испытывал за Льва Николаевича, живя за тысячи верст от него, никогда не изгладятся в моей душе. Я никогда не думал, чтобы это было возможно. Я не ждал этого от жизни, от людей, от нашего общества! Выступление одного из сыновей в печати, газетное сообщение о том, что трое сыновей Льва Николаевича наняли адвокатов, чтобы найти какие-нибудь слабые стороны в завещании, рост цены на Ясную, как и та сумма, которую предлагают за одно только издание, — все это избавляет меня от необходимости вдаваться в подробности. Как прекрасно сказал Илья Львович1, "Те, необыкновенной чувствительности, весы, на которых Лев Николаевич перед совестью взвешивал свою жизнь", от такого оборота дела мучительно заколебались. Прежде последствия "старых грехов", старых обязательств перевешивали и Лев Николаевич отказывался от мечты об уединенной жизни с Богом в честной бедной обстановке, и оставался "ходить по острию ножа". Теперь на одну чашку навалилась новая нестерпимая тяжесть. О равновесии не могло быть и речи. Когда 17 летним юношей, говоря со Львом Николаевичем о своих домашних несогласиях, на настойчивый совет Льва Николаевича уступать я возразил, что, если б без конца уступать, мы жили бы в каменном веке, Лев Николаевич сказал мне: "Разумеется, есть предел, дальше которого нельзя и не следует гнуться". Лев Николаевич геройски отодвигал этот "предел", куда только была какая-нибудь возможность, но пришло время, когда требования среды перешли всякие пределы и Лев Николаевич выпрямился. 82-летний старец, имеющий пред собой жизни недели, он таился, обдумывал, обманывал, украдкой укладывал вещи и ночью побежал с фонарем на конюшню... Сзади ужасный призрак быть пойманным и вновь окунутым в ту тину противоречий, в которой он 30 лет задыхался; впереди – наконец нравственная свобода, возможность расправить душу и, так давно ожидаемое, исполнение своего долга перед Богом... От волнения Лев Николаевич заблудился между домом и конюшней! Он уронил свою шапку и искал ее по снегу; тут началась его простуда. Добравшись, наконец, до конюшни, он "сам дрожащими от волнения старческими руками помогал запрягать"... и уехал, чтобы не вернуться более. Какая великая, потрясающая драма! Гениальнейший и искреннейший мыслитель нашего времени, на 83-м году жизни, за 10 дней до смерти принужден был бежать, как преступник, от той пучины взаимного непонимания, которая, по-видимому, беспредельна и неизбежна в этом мире! Невелика была нужда этого самоотверженнейшего слуги человечества. Он отдал все, что было возможно и 30 лет душою "ходил по острию ножа", — а ему нужна была только "теплая изба", уединение, выкуп каких-нибудь 800 десятин и, главное, спасение его полувековых трудов на просвещение общества от превращения их в средство наживы. Он хотел сохранить себе только немного покою и "последнюю честь"! И... ужасно сказать!... хотя на всякие странные памятники "Толстому" скоро соберут миллионы, — XX век и русское общество, как и его близкие, не дали ему при жизни ни того, ни другого. "Доктора говорили, — пишет мне один близкий друг покойного, — что всегда слабое сердце его под конец жизни было совсем издергано"... Великим, неизгладимым позором ложится это на наш век и на то общество, в котором это оказалось возможным! И теперь, когда это сердце перестало биться, никакие усилия и никакие страдания уже не смоют его с нас. ВО.1.1911, с. 1-13 Особенность миросозерцания Толстого Как много ни было говорено и писано о гениальности и необычайности художественного дарования Толстого, как ни велика любовь и уважение к нему всего мира, а сущность его миросозерцания остается совершенно темной почти для всех его читателей, особенно же неясна она людям науки, руководящим общественным мнением нашего времени. Между тем, мировоззрение Толстого обладает одной особенностью, которая имеет, а главное будет иметь огромное значение. Если жизнь личности от рождения до смерти подобна переходу по жерди через поток, то наука – это исследование того, как ставить на эту жердь ноги, праведность же – это смотрение вверх, чтобы сохранить равновесие. На деле ни один человек не может обойтись без той и другой деятельности духа, но обыкновенно обе или одна из них происходит бессознательно (как дыхание) и в таком случае другая получает в сознании огромное преобладание. Обращение римским императором Константином христианства в орудие государственного насилия и особенно чудовищный мрак, который более 1000 лет поддерживало над Европой папство, не останавливаясь ни пред какими преступлениями, были, между прочим, причиною непримиримой вражды между наукой и религией в христианском мире. Людей мысли этот гнет почти безнадежно оттолкнул от религии и праведности вообще; людей чувства, которые по слабости своей мысли не могли разглядеть совершенного над ними обмана и оставались верными господствующей церкви, это навсегда оттолкнуло от науки. Поэтому в христианском мире, по-видимому, в противоположность всему Востоку, люди, двигающие своими личными усилиями жизнь человечества, всегда были двух совершенно различных родов: с одной стороны, это люди с особенно тонко развитым чувством праведности и робким и во всяком случае смиренным и малодеятельным умом, принадлежащие преимущественно к самым широким трудящимся слоям человечества; с другой стороны, преимущественно в малочисленном праздном слое, это люди мысли с страстной любовью к истине. Первые дают мучеников за веру и непрестанно внутренне обновляют человечество, вторые кладут камень за камнем в несокрушимое здание науки. По своему духовному складу Толстой, несмотря на свои гениальные способности, принадлежал к праведникам. Такого склада была и воспитательница его, "тетушка" Ергольская, имевшая в детстве большое влияние на Толстого. Благодаря своим совершенно исключительным способностям и огромной разностороннейшей начитанности, он всегда без усилия держался в уровень со всеми сколько-нибудь значительными знаниями века, но как только испытал на себе и увидал в основе человечества все ни с чем не сравнимое значение праведности, он всем сердцем отдался ей и стремление к нравственному совершенствованию настолько овладело его существом, что совершенствованию мысли – науке в его сердце остались только уголки. Прожив 50 лет, как все в его кругу, т.е. заглушая в себе все самобытное в чувстве и мысли, Толстой вдруг увидал и почувствовал смерть и всю пустоту и бессмысленность того, чему он до сих пор отдавался. Личность была просто ничто, прах и червь, и жить для "целей личности" стало невозможно. Будь Толстой только человеком мысли, он отдался бы бесцельным мрачным размышлениям, как Соломон и Шопенгауэр или покончил бы самоубийством. Но он был сыном пропитанного христианским духом русского народа. И в это, страшно трудное время своей жизни, когда все основы, на которых он стоял, рушились; когда, как он сам вспомнил однажды при мне, от тоски и отчаяния у него завелись даже вши, он вдруг, в противоположность всем ученым пессимистам мира, обратил внимание на огромное ядро человечества, на трудящийся народ, который спокойно и кротко нес тяготы, несоизмеримо большие, чем люди его круга. Нравственную силу народу давала его вера. Сущность этой веры была в том, что человек находится в этом мире не "для целей личности", а для служения в его целом или в его сущности неведомому миру, требующему от него праведности и смирения. Противопоставить этой святой, полной самоотвержения вере приведшую его к отчаянию веру его круга в божественность личности, которую завтра, быть может, уже будут точить черви, не было никакой возможности, и Толстой всем сердцем принял веру народа. Два или три года он ходил в церковь, говел, соблюдал посты, посещал монастыри и общался с верующими. Паскаль и Гоголь пережили тоже самое. Но тут вдруг в Толстом проявилась великая особенность, которую нельзя достаточно подчеркнуть. Великих людей науки, бесстрашно раскрывавших и утверждавших истину, как и великих в своем отречении и смирении праведников в жизни человечества было немало, но Толстой в одном отношении резко отличался от них. Будучи душою сыном своего народа, Толстой в то же время был и верным сыном своего века, века зрелости и непоколебимой твердости критической мысли. И те церковные рамки, в которых свободно умещалась детская мысль народа, очень скоро оказались тесными и невыносимыми для могучего ума Толстого. Начались новые сомнения, новые труды и искания. После мучительных колебаний Толстой оказался вынужденным взяться за коренной пересмотр той веры, которой он пытался верить вместе со стомиллионным народом. Плодом этой деятельности были всем известные: "Исповедь", "Критика догматического Богословия", "Царство Божие", "Соединение, исследование и перевод 4-х евангелий" и, наконец, те главы "Воскресения", которые повлекли за собой отлучение его от церкви. Труд, который в течение четверти века затратил Толстой на эту работу, был огромен. С семинаристом он еще в 70-х годах изучил греческий язык, с раввином – древнееврейский. С поразительным терпением, "как хороший семинарист", изучил он богословие и страницу за страницей критиковал его. 15 лет работал он над переводом и соединением евангелий. Но все эти внешние трудности были ничто в сравнении с той огромной внутренней жертвой, которой потребовала от Толстого эта работа. Жертва эта была внешний разрыв с народом, с тем, что было для Толстого самого дорогого в нем, с наивной, детски-чистой верой лучших представителей народа, которая, несмотря на свою внешнюю связь с церковью, составляет опору жизни человечества. Решился он на это после больших страданий и колебаний; и в жизни этого гениального, искреннейшего и неустрашимого мыслителя был год или два, когда он, …. подобно Гоголю, старался придавать иносказательный смысл обрядам и т.п. Но то, что более двух веков назад было возможно сделать гениальному Паскалю2, оказалось невозможным для Толстого. Любовь к праведности, то сознание своей ничтожности, полной зависимости от неведомого, внешнего, полная покорность ему, которая составляет сущность религиозности, не могла заглушить в душе Толстого другой силы – самоопределяющейся и самопроверяющейся, а потому несокрушимой, научной мысли, опирающейся на все умственное наследие человечества. И после одного или двух лет колебаний гениальный мыслитель предпочел лучше остаться совершенно одиноким между отвергнутым им праздным сословием и горячо любимым народом, от которого он сам вынужден был внешне отделиться, чем заглушить основное и драгоценнейшее свойство зрелого человека в этой жизни – его точную критическую мысль. Таким образом в лице Толстого религия после 15 веков непримиримой вражды и противодействия впервые подала руку науке, как, в лице еще мало известного у нас, умершего 10 лет назад в Женеве, замечательного философа А. Шпира, наука подала руку религии3. И, вероятно, не далеко то время, когда Толстой будет назван основателем точной науки о поведении, как Шпир – основателем научной метафизики. "Переписка с друзьями" Гоголя и знаменитое письмо к нему Белинского представляют, вероятно, один из самых ярких примеров того полного непонимания, которое еще 60 лет назад было неизбежно между людьми праведности и людьми науки. А для всякого, кто глубоко вникнет в миросозерцание обоих писателей, будет ясно, что оба они вполне искренни и честны. Прочтите теперь хотя бы "О религии и нравственности" (в русском издании основные места выпущены) или "Что такое религия и в чем ее сущность" Толстого и, к стыду нашему, не переведенные еще на русский язык "Новые очерки критической философии" Шпира и вы будете поражены полным согласием, которое обнаружите в глубине этих исследований, несмотря на то, что Толстой занят уяснением сущности и смысла праведности, а Шпир исследует только действительность, "факты, каковы они суть на самом деле". В этом великая и совершенно исключительная особенность миросозерцания Толстого. Миросозерцание это, в противоположность всем прежде существовавшим, есть результат дружной, совместной работы двух высших сил человека: религиозного сознания простодушного праведника и критической научной мысли ученого XX века. Оно включает в себя все, что есть действительно ценного для самостоятельной жизни человека в современных религиях и науке. Оно гораздо шире так называемого в наше время "научного", т.е. материалистического миросозерцания, потому что сознательно устанавливает отношение личности ко всему, в целом и в сущности неведомому миру, владеющему ею, и вследствие этого дает ясное руководство поведения. Современное же "научное" миросозерцание или не видит этих двух основных запросов человеческого разума, или только жмурится перед ними, как сова перед солнцем. С другой стороны, мировоззрение Толстого настолько же шире всех существующих религиозных учений нашего времени, так как оно включает в себя 30-ти вековой умственный опыт нашей цивилизации и все проверяет и все освещает им, изгнав с помощью этого опыта все суеверное и таинственное (мистическое). Если прибавить к этому, что, благодаря своему громадному художественному дарованию, Толстой широко разбросал семена своей ясной и доброй, строго-критической веры среди всего читающего мира, то не останется сомнения, что мы переживаем начало новой эры в истории человечества, эры, когда религия и наука, одинаково очищенные от лжи, суеверий и низменных .... и корыстных целей, будут рука об руку вести человечество к сознательной и доброй жизни. В прошлом европейской цивилизации есть только одно лицо, отчасти подобное Толстому – это великий Руссо, почти полтора века назад ставший во главе западноевропейского просвещения. Толстой считал его своим учителем, наравне с евангелием. Руссо могучими ударами топора наметил направление, в котором должно расколоться то полено зла личной и общественной жизни, над уничтожением которого трудились все честные люди, и надколол его. Толстой внимательно рассмотрел это вязкое, суковатое полено и перерубил у него все суки. После Толстого каждый, кто серьезно захочет, может расколоть его. Влияние Руссо распространилось только на Западную Европу, и через 10 лет после его смерти началась небывалая в истории революция, широко расходившиеся волны которой до сих пор колеблют ветхий общественный строй Европы. Но Толстой глубже раскрыл основы разумного поведения, и влияние его простирается на все читающее и думающее человечество. С помощью времени он обновит мир. №4, с. 1-5 О "Боге Толстого" Едва ли среди ученых, как и среди приверженцев всех бесчисленных "вер" человечества найдется много людей, вполне согласных с таким значением Толстого в жизни человечества. Пока два препятствия делают это невозможным: верующих, для которых не существуют все великие открытия последних веков (от шарообразности земли до закона сохранения силы и вещества) и которые мыслью живут еще как бы только в XII веке, от Толстого отталкивает зрелость и свобода его мысли. Искренних же людей науки пугает темное для них понятие о Боге и отчасти раздражает отрицание Толстым деятельности современных ученых. Верующим всех видов и толков сама жизнь давно уже дает очень определенный ответ. Людям научного склада мысли можно указать на некоторые стороны предмета, которых они, по-видимому, до сих пор еще не замечали. Выросши в самом сознательном атеизме и материализме, я, как, думаю, и все искренние люди подобного образа мысли, не мог не признать полной ясности и точности приблизительно 99 сотых содержания нравственно-религиозных книг Толстого. Только новое для меня понятие – "Бог", — эта "гипотеза", "в которой", сказал, какой-то знаменитый ученый, Он "не имел еще надобности", было для меня совершенно неясно и, казалось, отдавало пустой таинственностью. (О понятии "6ессмертия", "не временной жизни" я не говорю, п.ч. в конце "Христианского учения" Лев Николаевич высказался об этом вполне точно и определенно без тени мистицизма). Если бы о Боге мне стал говорить кто-нибудь другой, я бы не стал и слушать. Я слишком хорошо знал цену всему таинственному. Если дикари в своем простодушии склонны к нему, это то единственное средство выразить покорность воле неведомого Владыки их жизни. Но когда люди зрелой мысли отдаются тому же, это может быть объяснено только желанием обмануть свой разум и совесть. Тут, как и во многих других явлениях жизни, противоположности соприкасаются. Но к Толстому эта мерка не могла быть применена: его полная искренность, как и могучая сила мысли, были слишком несомненны для меня из всех его писаний, а затем и из личного знакомства. Разум Толстого, несомненно, так же ненавидел все темное, таинственное в своих обиходных понятиях, как сердце его любило праведность. Поэтому для меня, как и для всякого серьезного читателя, не было другого выхода, как постараться понять, что именно разумеет Толстой, употребляя это слово, представлявшееся мне наследием темных суеверных веков. Эта работа продолжалась для меня три года. Здесь, разумеется, невозможно изложить сущность предмета. Для этого требуется особое исследование. Я теперь могу только указать тот путь, который привел меня к полному уяснению этого коренного понятая в мировоззрении Толстого. Через несколько недель после моего первого знакомства со Львом Николаевичем мне пришлось пожить около Ясной. Однажды после вечернего чая Лев Николаевич, чувствовавший себя нездоровым, позвал меня к себе. Он тогда помещался еще внизу под сводами. — "Что же вас занимает теперь? О чем вы думаете?", — спросил он, ложась на клеенчатый диван и рукой, просунутой за пояс, нажимая болевший живот. — О Боге,— сказал я. — Стараюсь уяснить себе это понятие. — "В таких случаях я всегда вспоминаю определение Мэтью Арнольда. Вы не помните его? "Бог – это Вечное, вне нас сущее, ведущее нас, требующее от нас праведности". Он исследовал ветхозаветные книги и для того времени это достаточно. Но после Христа надо прибавить еще, что в тоже время Бог – это Любовь", заговорил Лев Николаевич. — "Да впрочем, о Боге у каждого свое представление. Для материалистов Бог – это материя, хотя это и совершенно ошибочно; для Канта это – одно, для деревенской женщины – другое", — продолжал он, видя, что я только недоумеваю на его слова. — "Но что же это за понятие такое, что у различных людей оно различно? — заговорил я. — Ведь другие понятия у всех одни?". — "Отчего же? Есть очень много предметов, о которых у различных людей совершенно различные представления". — "Например?" — удивленно спросил я. — "Да их сколько угодно... Ну, хотя бы воздух: для ребенка он не существует, взрослый знает его, — ну как это сказать, — путем осязания, вдыхает его, а для химика это уже совсем другое." — Лев Николаевич говорил с той спокойной убедительностью, с какой отвечают на самые простые вопросы детей. — "Но если представления о предмете и могут быть различны, то зачем же пользоваться для указания на него этим темным словом "Бог?" — спросил я. "Баба, которая употребляет его, хочет ведь сказать совсем другое, чем вы?" — "Представления у нас разные, но есть кое-что общее. У всех людей это слово вызывает в своей сущности общее им всем понятие, и потому его ничем не заменишь". Я больше не продолжал беседы. Более года, будучи занят исключительно изучением писаний Льва Николаевича, я только тут впервые нащупал то, о чем он говорит, употребляя слово Бог. Слова: "Для материалистов Бог – это материя" были откровением для этого понимания. Эти слова наконец точно указали мне то место, которое занимает в мировоззрении Толстого понятие "Бог". Это было то самое место, которое в мировоззрении ученых занимает понятие "материя". Представления об этом предмете у разных людей разные и в тоже время имеют между собой нечто общее и это общее составляло сущность понятая "Бог". С этими тремя новыми данными для решения задачи я и уехал в этот раз из Ясной, вполне уверенный в полном отсутствии мистицизма у Толстого. Через год были изданы в Англии "Мысли о Боге" (теперь их можно купить за 1 коп. в изд. "Посредника"). Перечитав эту книжечку, отметив в ней наиболее точные определения, я сопоставил их и выделил то, что есть в них общего. То, что получилось от такого сопоставления, я подставил на место понятия "материя" ученых. Затем я спросил себя, что общего может быть у открытого таким путем понятия с тем, что человечество называет словом "Бог". Яснее ничего не могло быть: общее было то, что сущность этого понятия непостижима, неведома для нас, владеет нами, включает в себя нас, и потому заслуживает от нас полного доверия к себе и благовейного отношения. Единственное препятствие, которое мешало мне уяснить себе, что Толстой разумеет под словом "Бог", состояло в том, что у меня было убеждение, что все верующие представляют себе Бога вне мира, отдельно от мира. Подобное же существо совершенно немыслимо. Теперь я ясно увидел, что Бог Толстого находится в самом сердце вселенной. Как "матеря" ученых, это – существо, обладающее самым действительным существованием (реальностью). Только материя, одновременно составляющая основу физики и логики – немыслима, Бог же – это действительность, вполне точно и научно определенная, хотя лежащая за пределами наших пяти чувств и к которой мы причастны, поскольку мы служим истине и добру. — Если это так, сказал я себе, когда наконец ясность этого понятия впервые блеснула пред моим разумом, то в конце статьи "О религии и нравственности" должно быть сказано: "Религия есть установление отношения не "к Богу и миру", а "к Богу или миру". В женевском издании Элпидина стояло "и", но эти издания известны своей неряшливостью. Я разыскал статью в полном собрании сочинений, редакция которого, как говорила мне Софья Андреевна, очень тщательна. Последние строки не были выпущены цензурой, и там стояло "к Богу или миру". Это было для меня доказательством того, что я стою на верном пути. Через несколько месяцев болезнь Льва Николаевича привела меня опять в Ясную и тут я мог решить свои последние сомнения. Это было вскоре после отлучения, когда Лев Николаевич только что написал свой знаменитый ответ синоду. Я приехал, когда Лев Николаевич уже поправился, но был еще очень слаб, так что разговаривать с ним подолгу я не решался. Только однажды мне посчастливилось. Подойдя к дому, я застал Льва Николаевича, лежащим на кушетке перед верандой. С ним была только Мария Львовна. Я решил воспользоваться этим, по-видимому, единственным случаем разрешить мои последние сомнения. — Что, Лев Николаевич, можно пофилософствовать немного, это вас не утомит? — спросил я, в то время как публика начинала уже стекаться к соседнему столу с закусками. — "Ничего, можно, можно", — как всегда, приветливо улыбнувшись, проговорил Лев Николаевич. — Я последнее время все думал о Боге. И вот вчера думал, что нельзя определять Бога положительными определениями: все положительные определения – понятия человеческие, а точными будут только определения отрицательные с "не". — "Совершенно верно", — серьезно сказал Лев Николаевич. — Так что неточно, нельзя говорить, что Бог – Любовь и Разум: любовь и разум это человеческие свойства. — "Да, да, совершенно верно. Любовь и разум только соединяют нас с Богом. А это, знаете, когда пишешь такие вещи, как ответ Синоду, то невольно впадаешь в такой, всем понятный, общеупотребительный тон," — сказал Лев Николаевич и я поспешил к столу, куда в третий раз уже звали меня... Теперь все было ясно. Я возвратился домой в полном обладании самым драгоценным знанием, которое доступно человеку, — знанием Бога. Дома я прочел Канта, затем поразительные по точности и простоте "Очерки критической философии" Шпира и, наконец, его непереведенные на русский язык "Новые очерки критической философии" и основное сочинение – "Мысль и действительность", которые привели для меня метафизику в окончательный порядок. Как рыба в океане, так я, вообще человек, нахожусь в Боге, "я в Нем и Он во мне". И ни исчезнуть, ни отделиться, ни изменить что-нибудь нельзя. Уяснять истину и отрекаться от личного значит открываться Ему, вбирать Его в себя. Обманывать себя делать зло значит закрываться, отвертываться от Него. Опереться на Него значит очнуться к действительности; и сделать это всегда во власти человека, это также легко как вдыхать воздух; и если мне и другим людям тяжело бывает жить, то это только оттого, что мы ограждаемся от Бога всякими воображаемыми перегородками самомнения, себялюбия, самолюбия, гордости и т.п. Отбрось эти глупости, как можешь и насколько можешь, открывайся Ему, и ты спасен. Болезнь, нищета, труд и сама смерть – это только могучие помощники для пробуждения к действительности, для отречения от мнимых образов, порабощающих нас. Вот что открыло мне мое трехлетнее изучение Бога Толстого! В "Зеленой палочке", которую все прочли недавно в газетах, эта сторона миросозерцания Толстого выражена очень ясно. Верующие любят обвинять Толстого в том, что он разрушает веру. Между тем меня, глубоко убежденного атеиста и материалиста он привел к Богу, и я убежден, что нет такого искреннего и честного человека, который в наше время с помощью Толстого не мог бы найти Бога. Те, кто ценят в религии ее жизненное значение, а не преимущества, которыми они обладают пред своими ближними, благодаря исповедованию ее, все искренно религиозные люди, не могут не забыть перед этим великим, небывалым явлением жизни человечества своих мелочных и глупых разногласий и не преклониться пред огромной работой духа Толстого, которая отделила во всех религиях зерно всем необходимой и для всех обязательной истины от тысячелетних наносов невежества и суеверий и дала, наконец, миру критическую научную религию и нравственность. Но этого мало. Очищенная вера, которая для Толстого была мучительным внешним отделением от народа, для меня была неожиданным радостным внутренним соединением с ним. Прежде мое общение было ограничено узеньким кружком мыслителей, захлебывающихся в пустоте и пресыщенности своей жизни; теперь я живу душою с миллионами, и понимаю и вижу, иногда сквозь коросту их вынужденного невежества и пороков, всю серьезность, всю святость их смиренной и терпеливой производительной жизни и всю точность их отношения к миру, с которым в глубине души они живут и умирают. И я могу учиться и укрепляться их примером. Как советует Толстой4, я потянулся за ним из того болотца, в котором сидел с небольшим кружком людей своего сословия и которое представлялось нам островом среди моря, и впервые в жизни я почувствовал твердую почву под ногами и увидал, что пугавшее меня море – самая незыблемая суша, а то местечко, где мы думали, что спасаемся от трудностей жизни – гадкое гнилое болотце, в котором гибнут и задыхаются люди! Как же не благословлять после всего этого память незабвенного Толстого! Как ни назвать его своим спасителем. №5, с. 1-7 Об отношении Толстого к науке. Отрицание Толстым деятельности современной "науки", также немало препятствует тому, чтоб люди научного склада мысли вникали в сущность его миросозерцания. Встречая ученого человека, спорящего о Толстом, всегда можно заранее поручиться, что основных сочинений Толстого он не читал. По нападкам на докторов Позднышева в "Крейцеровой Сонате", по какой-нибудь мелкой брошюре, по газетным заметкам и болтовне в гостиных, у так называемой интеллигенции, по-видимому, прочно сложилось убеждение, что Толстой, не понимая его сущности, отрицает самый метод научного критического мышления и отдается мистицизму, т.е. суевериям. Я никогда не говорил с Толстым о науке. Предмет был слишком серьезен, чтобы можно было касаться его слегка. Моя мечта была представить ему попытку исследования самой сущности предмета, именно положительного значения точной науки для человечества. Но при жизни Льва Николаевича мне не удалось довести эту работу до удобочитаемого состояния. Живя исключительно научным образом мышления, я, разумеется, не мог удовлетворяться теми полными истины и глубины, но краткими и обыкновенно не касающимися сущности предмета статьями Льва Николаевича о науке и поэтому постоянно напрягал все свое внимание для уяснения отношения Толстого не к современным мнимым наукам, но к самой сущности науки, к ее методу, к тому точному, сознательно-проверенному мышлению вообще, которое дает человеку обладание незыблемой истиной, и которое стало возможным во всей своей силе и полноте только после открытия шарообразности земли, ее положения во вселенной и изобретения книгопечатания. Самое определенное и положительное, что сказал Толстой о науке, это заключительные слова к книге "Что такое искусство": "я сделал, как умел, занимавшую меня 15 лет работу о близком мне предмете – искусстве", — говорит он в начале заключения. "Но для того, чтобы искусство приняло новое направление, нужно, чтобы другая столь же важная духовная человеческая деятельность – наука, в тесной зависимости от которой всегда находится искусство, точно также, как искусство, — сошла с того ложного пути, на котором она находится". Немного далее он говорит о том, что наука даже определяет направление искусства. Это значит, что для улучшения жизни человечества исправление науки стоит на первом месте и исправление искусства, столь же близкое сердцу Толстого, последует само собой за возвращением науки на истинный путь. Крайний же вывод из этого тот, что возродится истинная наука, или окончательно выродится искусство и даже человечество. А между тем Толстой не только не взялся исследовать науку прежде искусства, но даже не называет науки "близким ему предметом". Отсюда с полной несомненностью следует заключить, что Толстой понимал и ценил ни с чем не сравнимое значение науки, но по складу своего ума не имел склонности к отвлеченным и доступным пониманию небольшого числа людей изысканиям и определениям, без которых нельзя обойтись в науке. Без усилия держась вровень со всеми значительными знаниями своего века и пользуясь ими, Толстой не занимался оценкой их положительного значения в жизни человечества и как будто мало дорожил ими. Область чувства, "любовь любви" и праведности и средство передачи его – искусство без остатка поглощало все его внимание и силы. Это было великим счастьем для человечества и для Толстого. Только художник мог пробить путь к тем миллионам сердец, которые так трогательно полюбили его. Пиши Толстой только философские сочинения, едва ли у него нашлась бы одна тысячная теперешних читателей и почитателей. Но таким образом можно было привлечь внимание чутких сердец, но не людей твердой мысли, которые помощью науки (как бы безнадежно она ни заблудилась) с неудержимой силой ведут и будут вести за собой общество и народ, так же неизбежно, как взрослые ведут за собой детей. Чтобы быть понятым искренними и серьезными людьми науки, надо было сделать о науке исследования, совершенно подобные тем, какие Толстой сделал о богословии, евангелии и искусстве. Будь у Толстого сколько-нибудь значительная склонность к науке, не может быть и сомнения, что он начал бы все свои исследования с нее. Это тем более несомненно, что, как видно будет ниже, он вполне понимал первенствующее значение науки в жизни человечества. Из этого несомненно видно, что у Толстого не было теоретической склонности к точной науке. Но этого мало. Даже тот взгляд на первенствующее значение науки для жизни и прогресса человечества, который, как мы увидим, так определенно выражен в конце одного из значительнейших трудов Толстого, разделялся им больше теоретически. На деле же, под влиянием своего любящего сердца он охотнее верил в то, что деятельность всех современных художников и научных писателей скорей совершенно пустое и ненужное занятие, а народ, этот могучий титан, в котором сосредоточена вся творческая сила природы, сам собой обновится и найдет путь к сколько-нибудь удовлетворительной жизни. В l899 году, когда я во второй раз приехал в Ясную, московские друзья много говорили о газете, которую они собирались издавать при ближайшем участии Льва Николаевича. — "Я так рад, — сказал мне Лев Николаевич после одного такого разговора, что это устройство газеты меня нисколько не волнует. Я так глубоко убежден в том, что эти истины сами собой проникнут в народ, что совершенно чужд всякого стремления к такой пропаганде". Вообще вся первая половина критического периода Толстого носит отпечаток большой идеализации народа. 18-летний юноша, пламенно любивший истину, я по писаниям Льва Николаевича всем сердцем полюбил рабочий народ, которого до той поры никогда не видел близко. Подняться до нравственной и практической высоты его жизни, учиться от него и слиться с ним было заветной мечтой моей. Наученный Толстым я напряженно шел по жердочке своей земной жизни, "поглядывая вверх", когда приходилось трудно, но по природной склонности своей я больше смотрел вниз и исследовал то, с чем имел дело. И после нескольких лет жизни с народом я с полной ясностью увидел, что положение его гораздо более ужасно и безнадежно, чем это представляет себе великий Толстой. От той детски-наивной и глубоко-христианской веры, которую когда-то славянское евангелие5 и странствующие праведники распространяли по России и на которую постоянно указывает Толстой, в народе теперь осталось только то, что на химическом языке называется "следы". Знаний же, и в этом весь ужас его положения, у народа нет и не появляется, кроме ложных или вредных ему. И поэтому упадок духа, уныние и неразлучные с ним пьянство, все пороки и вырождение равномерно распространяются, а главное неизбежно будут распространяться в нем. Лет через 6-7 после моего знакомства с деревней я увидел, что, — разумеется, за исключением труда и природы, — жизнь ее так же пуста и уныла, как и жизнь болтающей интеллигенции. Чеховские "Мужики" вполне точно изображают ее. К сожалению, я нигде не мог достать того разговора о вере, который выпустила из этого грустного, но научно-драгоценного рассказа цензура девятидесятых годов. Я был немало удивлен, когда в появившемся "обращении к духовенству" встретил родственную мне в этом мысль: "На моей памяти рабочий русский народ потерял в большой степени черты истинного христианства, которые прежде жили в нем и которые старательно изгоняются теперь духовенством" — говорит там Лев Николаевич. Через несколько времени, читая предисловьице, которое Лев Николаевич перерабатывал еще для маленькой брошюрки одного из друзей о воинской повинности, я заметил намек в том же направлении. Однако после нескольких переделок эти слова были выпущены Львом Николаевичем. В другой раз, во время революции, одна приезжая дама рассказывала при мне Льву Николаевичу о своей поездке к сектантам и передавала свой разговор с извозчиком, в котором тот, темный мужичок, обнаружил полное понимание основ христианства. Была какая-то особая "ясность" в выражении лица внимательно слушавшего Льва Николаевича. — "Ведь есть же еще такие!.. — воскликнул он с горячностью и умилением, когда рассказчица кончила; и вдруг, помолчав, докончил, подчеркивая слова: — "Последние из Могикан" — и жалобная нотка досады и горькой обиды зазвучала в его голосе и те же чувства отразились на подвижном лице его. Этих намеков вполне достаточно для того, чтобы увидеть, что Толстому видна была вся безотрадная сторона окружающей нас действительности. (В одной из последних статей его: "Три дня в деревне" это очевидно). Но он не любил останавливать на ней своего внимания, вероятно, по той же причине: отчасти по отсутствию природной склонности к объективному изучению действительности, отчасти потому, что сердце его было отдано праведности (осуждение же противоположно ей), а главное, вероятно, потому, что силы и время его были без остатка отданы проповеди светлой, бодрой, земной любви и любовно-разумной переписке со всем миром. Эти две особенности отношения Толстого к предмету необходимо помнить каждому человеку научного склада мысли, читая его критику науки: 1) Толстой не был такого духовного склада, при котором простое уяснение и установление истины представляется захватывающим делом жизни, — а и этом сущность научного склада; и 2) захватывающим делом жизни для него была полная преданность "воле хозяина" и бодрая любовь к людям, та любовь, на вопиющее нарушение малейшей тени которой направлены все усилия той деятельности, которая в наше время так успешно прикрывается именем науки. Из этого следует, что для уяснения взгляда Толстого на науку нельзя действовать так, как я делал это с уяснением его понятия "Бог". Там предмет близок ему и, определяя его, он каждый раз старался очертить самую сущность его. Тут же, наоборот, не особенно дорожа предметом, он говорит о какой-нибудь одной его стороне (например, о служении науки богатым, о том, что разные науки взаимно отрицают друг друга и т.п.) как будто бы это весь предмет. Делает это Толстой потому, что о науке он в своих писаниях обыкновенно вспоминает только постольку, поскольку современные подделки ее вредят обществу. Совершенно то же самое делают ученые, когда, чтобы окритиковать учение Христа, они смеются над католицизмом. Поэтому для определения отношения Толстого к сущности науки, те из его писаний, которые на деле проявляют его отношение, важнее тех, где он, всегда чрезвычайно кратко и мимоходом, прямо критикует предмет. Возьмем, например, его отношение к науке об общественном хозяйстве (политической экономии). В книге "Так что же нам делать" Толстой раздражен тем, что эта мнимая наука преследует только одну цель – оправдание вопиющих жестокостей жизни богатых классов. И он хватает ее за первый попавшийся конец и начинает трясти все это нелепое здание. До сущности ему нет дела. Он видит только, что выдумали какие-то факторы производства, которых может быть и 3 и 17, и сколько угодно, и во имя этого хотят доказать, что богатая и праздная жизнь рядом с голодающими миллионами очень нужное дело6. Но вот попадаются ему книги Гендри Джорджа, и Толстой в восторге от них. Прочтите его предисловие к "Общественным задачам", его письма о Джордже, "Великий грех". Он нежно, всем сердцем любит Джорджа, пишет, что его книги "многое уяснили ему", и когда богатый американец Э. Кросби (впоследствии друг Толстого) спрашивает его, чем ему заняться, Лев Николаевич отвечает, что "у них в Америке есть замечательный человек – Джордж, и послужить его делу есть дело, на которое стоит направить все свои силы". Или другой пример: как резки нападки на докторов в "Крейцеровой сонате", но вот попадается Толстому в руки "Токология" Стокгем и он пишет к ней предисловие. То же с брошюрой доктора Алексеева о пьянстве, со статьей проф. Гейма "Половая жизнь" и многими другими. Стоит только науке начать служить тому, что составляет ее назначение, — благу людей, и Толстой всем сердцем присоединяется к ней. Но пока деятельность, носящая имя науки, направлена всецело на вред и глупую, а иногда бессовестную ложь, он резко нападает на нее и иногда получается такое впечатление, что, отвергая частное проявление, он отвергает и самый метод, иногда же, может быть, заодно, нападок не избегает и метод. Для Толстого не было выбора. Для него были возможны только два отношения к современной науке: или подробное исследование сущности и цели науки и того, что надо сделать современной науке, чтобы она стала истинной, — исследование, которое потребовало бы не меньше работы, чем книга "Что такое искусство", занимавшая Толстого 15 лет, — или те краткие нападки на ту ужасную деятельность, которая в последние два века, под именем науки, ведет человечество к его верной гибели. Так что в вопросе об отношении Толстого к сущности точной науки, к ее методу ясно, 1) что на деле Толстой лично вполне обладал им ("Критика догматического богословия", "Христианское учение" — кроме определения Бога, "Царство Божие внутри вас", "Что такое искусство" и многие другие вполне научные труды); 2) что он горячо приветствовал все применения науки для блага людей. Насколько же он понимал и ценил самый метод, показывает следующая страница из заключения его исследования об искусстве: "Надо надеяться, что та работа, попытку которой я сделал, об искусстве, будет сделана о науке, что будет указана людям неверность теории науки для науки, и будет ясно показана необходимость признания христианского учения в истинном его значении и что на основании этого учения будет сделана переоценка всех тех знаний, которыми мы владеем и так гордимся, будет показана второстепенность и ничтожность знаний опытных, и первостепенность и важность знаний религиозных, нравственных и общественных, и что знания эти не будут, как теперь, предоставлены руководительству одних высших классов, а будут составлять главный предмет всех тех свободных и любящих истину людей, которые не всегда в согласии с высшими классами, но в разрез с ними, двигали истинную науку жизни. Науки же математические, астрономические, физические, химические и биологические, так же, как и технические и врачебные, будут изучаемы только в той мере, в которой они будут содействовать освобождению людей от религиозных, юридических и общественных обманов или будут служить благу всех людей, а не одного класса. Только тогда наука перестанет быть тем, чем она есть теперь: с одной стороны, системою софизмов, нужных для поддержания отжившего строя жизни, с другой стороны – бесформенной кучей всяких, большею частью мало или вовсе ни на что не нужных знаний, а будет стройным органическим целым, имеющим определенное, понятное всем людям и разумное значение, а именно: вводить в сознание людей те истины, которые вытекают из религиозного сознания нашего времени. И только тогда и искусство, всегда зависящее от науки, будет тем, чем оно может быть и должно быть, — столь же важным, как и наука, органом жизни и прогресса человечества. В наше время общее религиозное сознание людей есть сознание братства людей и блага их во взаимном единении. Истинная наука должна указать различные образы приложения этого сознания к жизни. Искусство должно переводить это сознание в чувство. Может быть, в будущем наука откроет искусству еще новые, высшие идеалы, и искусство будет осуществлять их; но в наше время назначение искусства ясно и определенно7." В этих словах даже самая высокая оценка значения науки, какая только возможна. Так и сказано, что наука есть важный орган жизни и прогресса человечества, и что искусство зависит от нее. Место естественных и математических наук, которые в наше время какого-то странного недомыслия почему-то присвоили исключительно себе имя науки, так же ясно и точно определено. Высшего значения для науки нельзя и придумать. Обстоятельное и полное исследование как веры Толстого в Бога, так особенно его одновременного признания точной науки последних трех веков будет возможно только после появления в печати всех его писаний. Но сказанного достаточно, чтобы видеть, как то, что, имея взгляды совершенно несогласные с общепринятыми, Толстой был в то же время свободен от суеверий, так и то, что он вполне сознавал значение и сущность точной науки. Если прибавить к этому, что в последние годы никто не решался отрицать у Толстого его полную искренность и честность, как мыслителя, то приходится признать, что Толстой представляет самое замечательное явление в современном человечестве, и в природе (поскольку человечество – ее часть; я говорю это натуралистам). Если гениальный, вполне просвещенный мыслитель, в честности и искренности которого нельзя сомневаться, мог, в течение 30 лет напряженно работая умом, держаться образа мыслей, совершенно противоположного общепринятому в среде ученых, то это могло быть возможно только при одном условии – при ложности или ошибочности этого общепринятого образа мыслей. Из этого следует, что всякий серьезный ученый, если он действительно представляет из себя не полку с книгами, а самобытный, самоопределяющийся мысленный центр, прежде всякого другого изучения, обязан вполне уяснить себе миросозерцание Толстого и продолжать свои занятия только, или опровергнув его, или согласившись с ним. Не делая этого, он отлучает себя от настоящей, питающей и двигающей духовную жизнь человечества, науки и лишает свою деятельность полезности и разумного смысла. №6-7, с. 6-10 Влияние Толстого Прямое влияние Толстого на общество далеко не соответствует его великой известности. В 1901 году в "Ответе Синоду" Лев Николаевич писал, что в России едва ли найдется более ста человек, вполне разделяющих его убеждения. С того времени число это значительно возросло, но тем не менее оно остается ничтожным. Если и есть теперь люди, сознательно взявшиеся за труд, отказавшиеся от высоких должностей, ………………. и даже в среде художников и писателей если и есть люди, отказавшиеся служить забаве скучающих, праздных и брать за это и безумно проживать большие деньги, то это очень редкие, единичные исключения, так что даже великое исследование Толстого об искусстве как бы не существует для современных производителей его. Иначе, разумеется, и не может быть: для того, чтобы понять Толстого, надо уметь и желать мыслить совершенно бескорыстно, с одной только целью уяснить себе истину, совершенно не считаясь с теми неприятностями, которые подобное пользование своей мыслью может причинить нашему самолюбию, нашему кошельку и даже нашей личности. И хотя подобное мышление и есть мышление строго-научное, но в наше время почти нет людей, применяющих его к важным сторонам жизни. Причина этому та, что у белых народов точное мышление, под именем науки, всецело находится в руках господствующих классов. И эти последние уже много веков все с большим умением и успехом направляют свою силу, деньги и авторитет на то, чтобы совершенно отучить людей от самостоятельного мышления, а когда это невозможно, то стараются всецело направить мышление на глупости и пустяки. Чем ничтожнее наука, тем напыщеннее ее язык и тем значительнее вид профессоров, тем более праздная, богатая и славная жизнь ожидает ее служителей. Как же ожидать, чтобы в таком обществе могли быть поняты самые основные для сознательной жизни истины! На такое общество Толстой мог влиять только косвенно, самой своей жизнью, глубиной своих душевных запросов, чуткостью своего сердца, непобедимой привлекательностью своего духовного облика, которые гениальный художник так сумел отразить в своих произведениях. И действительно, это косвенное влияние неподдающееся учету, было огромно. Всеобщее волнение и сочувствие, которые вызвали в читающем мире уход, а затем и смерть Толстого, ясно показывают к какому огромному количеству сердец сумел пробить себе путь этот мыслитель, вконец осудивший современную жизнь. Во всех этих сердцах прежнее полное непоколебимое равновесие нарушилось, и начались незаметные, бесконечно малые перемены, последствия которых во времени могут быть бесконечно велики. Едва ли можно ожидать, что с течением времени толпе и влиятельным слоям общества удастся извратить или скрыть истины, уясненные Толстым. В век книгопечатания и зрелости мысли это невозможно. Поэтому это медленное, незаметное, но могучее косвенное влияние Толстого будет не переставая расти и расширяться. Однако, есть другого рода влияние Толстого, которое, увы, прервалось навсегда с его кончиной и на котором все серьезные друзья его, рассеянные по всему миру, должны сосредоточить все свое внимание. Это влияние личного вмешательства Толстого в мировую литературу прошлую и, особенно, современную. Открыв истинный смысл учения Христа и найдя в нем для себя спасение, Толстой взялся за пересмотр всего писанного наследия человечества. В беглом очерке, трудно перечислить все его открытия и заслуги в этом деле. Все бесчисленные и не объятые священные книги человечества были пересмотрены им, и из каждой он извлек драгоценные крупицы истины, которые совсем затерялись в них среди наслоений невежественных и суеверных веков. Поразительным примером этого погребения жизненных истин под невероятным количеством всяких мелочей, заполняющих священные книги человечества, может служить Талмуд. По прекрасным, великой силы, образности и точности изречениям из этой книги, которые я прочел в "Круге чтения", я был очень высокого мнения о Талмуде, и поселившись в Ясной, не без удовольствия увидел 12 огромных томов в 4-ую долю листа перевода Переферковича, лежащих на столе в маленькой гостиной. Однажды я улучил минутку и заглянул в один из них. Там было мелочное описание каких-то бесконечных обрядов8. Я открыл в другом месте, взял другой том, — тоже самое. Прочесть подряд такую книгу можно только в пожизненном тюремном заключении; найти же живые места, душу ее, то, что сделало ее священной, иначе невозможно. Отказавшись от этого чтения, я вскоре спросил Льва Николаевича, читал ли он его. — "Несколько раз я пытался найти там что-нибудь, – ответил он: но ни разу ничего не нашел. Читать его невозможно". — Откуда же эти изречения в "Круге чтения"? — "Я их взял из одного сборника, содержащего избранные места из Талмуда. Очевидно, составитель собрал все, что есть там заслуживающего внимания". Такова заслуга составителя сборника. Без его труда в "Круг чтения" не попало бы ни одного изречения из Талмуда! Толстой извлек также лучшие страницы из сочинений греческих и римских мудрецов. Присоединив к ним лучшие мысли европейских и американских философов и писателей, включая современных, и собрав все эти изречения в два объемистых тома, составил свой знаменитый "Круг чтения". Подобной книги, по глубине содержания и по соединению в ней мыслей мыслителей всех стран и веков, не знало еще человечество. Вер много, но религия одна и истина всегда под рукой у всякого, кто только захочет понять ее, — вот что на деле доказывает каждая страница этой книги, которая, кроме того, что со множества новых сторон раскрывает широту миросозерцания Толстого, дает ответы на сотни самых важных жизненных вопросов и сомнений. К научной полноте Толстой приблизился только в исследовании Евангелия. Он слово за словом перевел его с греческого, тщательно сличал все варианты и контексты и в подробных примечаниях дал объяснение каждому важному своему отступлению от общепринятых переводов. Затем он составил "Краткое изложение Евангелия"9 и наконец на закате дней с помощью десятка крестьянских мальчиков, которых он учил, составил "Учение Христа, изложенное для детей"10. Такое, концентрически расширяющееся изложение учения, в котором самое сжатое изложение так же полно, как и самое подробное, представляет тот тип, по которому, когда человечество захочет честно и серьезно мыслить, будут излагаться все науки11. И задача времени состоит в том, чтобы не медля приступить к подобного рода исследованию и изложению всех значительных основных учений древности римской, греческой и восточной и всех основ современной метафизики, общественных и, наконец, естественных наук. Поняв все первенствующее значение учения о "непротивлении злу" и получив в ответ на изложение его в книге "В чем моя вера"12 множество книг и писем о том же предмете из Европы и Америки, Толстой открыл множество великих мыслителей, совершенно исчерпавших основную заповедь христианства, и сочинения их, которые люди, овладевшие печатью и наукой, по-видимому, давно уже сдали в архив, как в Англии, так и в Америке, стали вновь доступны всякому серьезному мыслителю. Знаменитое "Провозглашение Гарриссона"13, "О христианском непротивлении злу" Баллу14, книга Даймонда "О войне"15, "Утверждение непротивления" Мойсера, "Сеть веры" Хельчицкого – все это драгоценные плоды трудов правдивых и иногда высокоталантливых мыслителей которые теперь, вероятно, были бы уже окончательно забыты без помощи Толстого. То же с Сютаевым16 и Бондаревым, лучшими представителями русского крестьянства, которых Толстой называл своими учителями. Кто, кроме Толстого, мог бы разыскать в провинциальном музее и разобрать малограмотную рукопись "О трудолюбии и тунеядстве"!? А между тем этот труд гениального Бондарева получит очень широкое распространение, а написанный Татьяной Львовной портрет голубоглазого Сютаева, изречение которого "все в табе" постоянно повторял Толстой, — будет украшать кабинет Толстого до тех пор, пока будет существовать яснополянский дом17. Десятки предисловий, послесловий, биографий, заметок и писем Толстого, не говоря о словесных его указаниях, обратили внимание всего мыслящего мира на множество горячих и правдивых мыслителей всех веков. Без Толстого часть их (как Кант) были бы известны лишь по имени, труды же остальных сделались бы достоянием мышей. В 1881 г. Толстой с помощью нескольких ближайших друзей основал книгоиздательство "Посредник", подобного которому, по задачам, направлению и величине, кажется, нет в мире, и теперь широкие слои читателей в грошовых книжечках могут иметь драгоценнейшие произведения величайших умов человечества, лучшие и важнейшие произведения современных писателей и ученых. Судьба современных писателей особенно важна. И на нее я бы хотел особенно обратить внимание друзей Толстого: посмотрите в каталоге "Посредника" список изданий, снабженных предисловием Толстого, и вникните в обстоятельства, предшествовавшие появлению каждого предисловия, и вы в большинстве случаев увидите одно и то же явление: или произведение, появившись в периодической печати, прошло совершенно не замеченным, или переводчик или автор безрезультатно обил все пороги редакций, пока не решился обратиться к Толстому. Толстой пишет несколько строк и издание быстро расходится. Особенно поразительно, что подобной участи подвергалися не только статьи с более или менее отвлеченным содержанием но и образцовые художественные произведения. Поразительным примером может служить роман Поленца "Крестьянин". Появившись в переводе в "Вестнике Европы", он прошел совершенно незамеченным даже писателями, и только, когда "Посредник" выпустил его с замечательным предисловием Толстого, он получил распространение. В своих воспоминаниях о Чехове В.Г. Короленко рассказывает, что когда он однажды вошел к Чехову, тот указал ему на этот только что вышедший роман и сказал: "Вот одну бы такую книгу написать и тогда можно умереть". Это было, кажется, за несколько месяцев до его смерти. Из этих слов видно, что без предисловия Толстого даже и Чехов не прочитал бы романа, который он ставил себе образцом!! Таково было влияние личной критики Толстого. За последние 30 лет Ясная Поляна была мировым центром того глубокого просвещения, которым дышит человечество и медленно, неуловимо и несокрушимо растет духовно. Это была центральная станция тех умственно-сердечных нитей, которые объединяют всех друзей добра и истины без различия "местожительства, подданства и вероисповеданий". Тысячи одиноких безвестных сердец, работавших для истины, присылали в Ясную плоды своих усилий из самых отдаленных уголков мира в ответ на могучий бесстрашный голос Толстого. Коронованные особы, и едва грамотные крестьяне, малайский губернатор, индусские мыслители, западно-европейские профессора, романисты, мыслители, офицер индийской армии, малограмотный солдат в осажденном Порт-Артуре и американские философы и пр. пр., без конца; живые и мертвые, давно забытые и знаменитые. Перечисление их заняло бы целую главу. Всех с равным вниманием встречал Толстой. Гениальный мыслитель и художник, пренебрегая потребностью личного творчества, без устали выбирал драгоценные жемчужины из моря печатной бумаги, затопляющего мир и, опираясь на свою известность, обращал на них всеобщее внимание, и драгоценнейшие плоды усилий человеческого духа, последние следы которых готовы были исчезнуть, становились достоянием тысяч, переводились на все языки. Таково огромное, далеко не оцененное еще практическое значение Толстого в нашей прессе, служащей исключительно денежным или жалким по своей узости партийным интересам и всегда готовой для этого под видом просвещения, затемнять сознание общества. №8, с. 7-11 Вопрос, кто заменит теперь Толстого, который выбирал из моря печатного хлама и отравы питательные крохи и делал их достоянием человечества, — вопрос этот есть, по моему глубокому убеждению, вопрос жизни и смерти белого человечества. Всякий, кто серьезно вдумается в него, согласится с этим. Толстой смотрел на эту сторону нашей жизни с мрачностью, далеко не свойственной ему. Вот что говорит он в предисловии к роману "Крестьянин"18. "Лет 20 тому назад Мэтью Арнольд написал прекрасную статью о назначении критики. По его мнению, назначение критики в том, чтобы находить во всем том, что было, где бы и когда бы то ни было, писано, самое важное и хорошее и обращать на это важное и хорошее внимание читателей. Такая критика в наше время затопления людей газетами, журналами и книгами и развития рекламы, мне кажется, не только необходима, но от того, появится ли и получит ли авторитет такая критика, зависит вся будущность просвещения образованного класса нашего европейского мира. Книгопечатание, несомненно, полезное для больших, малообразованных масс народа, в среде достаточных людей уже давно служит главным орудием распространения невежества, а не просвещения. Убедиться в этом очень легко. Книги, журналы, в особенности газеты, стали в наше время большими денежными предприятиями, для успеха которых нужно наибольшее число потребителей. Интересы же и вкусы наибольшего числа потребителей, всегда низки и грубы и потому для успеха произведений печати нужно, чтобы произведения отвечали требованиям большого числа потребителей, т.е. чтобы касались низких интересов и соответствовали грубым вкусам. И пресса вполне удовлетворяет этим требованиям, имея полную возможность этого, так как в числе работников прессы людей с такими же низкими интересами и грубыми вкусами, как и публика, гораздо больше, чем людей с высокими интересами и тонким вкусом. А так как при распространении книгопечатания и приемах торговли журналами, газетами и книгами эти люди получают хорошее вознаграждение за поставляемые ими и отвечающие требованиям массы произведения, то и является то ужасное, все увеличивающееся и увеличивающееся, наводнение печатной бумагой, которая одним своим количеством, не говоря о вреде содержания, составляет огромное препятствие для просвещения. Если в наше время умному молодому человеку из народа, желающему образоваться, дать доступ ко всем книгам, журналам и газетам и предоставить его самому себе в выборе чтения, то все вероятия за то, что он, в продолжение 10 лет, неустанно читая каждый день, будет читать все глупые и безнравственные книги. Попасть ему на хорошую книгу так же мало вероятно, как найти замеченную горошину в мере гороха. Хуже всего при этом то, что, читая все плохие сочинения, он будет все более и более извращать свое понимание и вкус. Так что, когда он и попадет на хорошее сочинение, он уже или вовсе его не поймет, или поймет его превратно19"... "Ответ на важнейший в наше время вопрос ищущего образования юноши образованного сословия или человека из народа, ищущего просвещения, может дать только настоящая критика. Не та критика, которая существует теперь и которая поставляет себе задачей восхвалять произведения, получившие известность, и под эти произведения придумывать оправдывающие их туманные философско-эстетические теории и не та критика, которая занимается тем, чтобы более или менее остроумно осмеивать плохие или чужого лагеря произведения, и еще менее та критика, которая процветала и процветает у нас и задается целью по типам, изображаемым у нескольких писателей, определить направление движения всего общества или вообще по поводу литературных произведений высказывать свои экономические и политические мысли. Ответить на этот огромной важности вопрос: что читать из всего того, что написано – может только настоящая критика, та, которая, как говорит Мэтью Арнольд, поставит себе целью выдвигать и указывать людям все, что есть самого лучшего, как в прежних, так и в современных писателях. Оттого, появится или нет такая критика, бескорыстная, не принадлежащая ни какой партии, понимающая и любящая искусство и установится ли ее авторитет настолько, что он будет сильнее денежной рекламы, — зависит, по моему мнению, решение вопроса о том, погибнут ли последние проблески просвещения в нашем, так называемом, образованном, европейском обществе, не распространяясь на массы народа, или возродится оно, как оно возродилось в средние века, и распространится на большинство народа, лишенного теперь всякого просвещения"20. Погибель последних проблесков просвещения! В устах Толстого, всегда склонного скорее смягчать мрачность окружающей действительности, чем сгущать краски, эти слова имеют огромное значение. И для всякого, кто пожелает повнимательнее вглядеться в положение современной литературы всего мира, не может быть никакого сомнения в полной правоте этих слов величайшего из деятелей слова. Слова эти значат, не более и не менее, как то, что все те огромные усилия, которые во всевозможных направлениях тратятся лучшими людьми для улучшения жизни общества, не могут привести решительно ни к чему, пока не возникнет такая могущественная критика. Спасения не может быть без возникновения настоящей науки. Наука же не может существовать без действительно просветительной литературы. Основа такой литературы – критика. Поэтому прежде всего другого мировой литературе необходима критика, точно и тщательно организованная, влиятельная и идеально честная и неподкупно строгая, которая указывала бы все действительно выдающееся. Иначе ротационные машины окончательно погребут мысль человечества под развратными или просто глупыми, бездарными романами, рассказами, стихами, ничтожными по своей мелочности и цели научными мудрствованиями и газетной болтовней. И так как на горизонте не видно величины, хоть немного приближающейся к Толстому, то только прочно организованное всемирное общество друзей истины, с девизом "Fiat veritas, pereat mundus", с платным центральным секретарем и с друзьями во всех концах света, могло бы взять на себя исполнение этой насущнейшей задачи времени. Задачей общества был бы систематический обзор всего писаного наследия человечества, а также всей современной литературы, и отделение из этого мутного моря всех немногих трудов, служащих серьезному уяснению истины и расположение их в круги, которые систематически расширялись бы, по мере надобности, и досуга читателя, но всегда сохраняли бы общий центр. С этой целью общество издавало бы если не журнал, то ежегодник с программами чтения и указателями, с помощью которых каждый грамотный человек всегда имел бы доступ ко всей истине, с такими усилиями уясненной до него лучшими людьми последних тысячелетий. Только появление в человечестве такой стройной организации с ее поистине "Новым органом" может действительно положить начало той новой эре в жизни человечества, эре сознательности, о которой так много стали говорить в наше время. Создание такого общества это, кроме того, что первый шаг к улучшению общественной жизни, еще и единственное вполне осуществимое внешнее практическое дело, вытекающее из миросозерцания Толстого (да я думаю, что из всякого серьезного и честного, широкого миросозерцания), для которого у нас достаточно силы. Какое множество всяких, в высшей степени жалких по содержанию и симпатичных по целям, журнальчиков и газет постоянно появляется и исчезает на книжном рынке, не обращая на себя никакого внимания и только прозябая, читаясь только ограниченным числом лиц. Перечислить их нет возможности. Одни посвящены исключительно борьбе с пьянством, другие – вегетарианству, третьи – Г. Джоржу, эсперанто, разумному правописанию, есть даже журнальчик врачей-эсперантистов, эсперантистов-стенографов и т.д. без конца. А обществ с такими узкими, разъединяющими (? Ред.) людей целями еще гораздо больше. У этих бесчисленных журнальчиков нет ни сотрудников, ни читателей, ни средств. Да и как может быть возможно годами читать и писать только о трезвости или о едином налоге. Между тем объединенные в одно и откинув каждый 99/100 того ненужного содержания, которое печатается только потому, что редактор считает себя нравственно обязанным не рассылать читателям белых страниц, они образовали бы очень интересное, стройное целое, необходимое каждому мыслящему человеку, от земледельца до писателя и ученого. Такой же ежегодник, подводящий итоги всем передовым движениям за год: живой религии и философии, непротивлению, джоржизму, вегетарианству, борьбе с пьянством, реформе правописания, действительно значительным для жизни человечества открытиям науки, международному языку, кооператизму, разумному воспитанию и обучению и пр. и пр., а также дающий список выдающейся текущей литературы, полные программы чтения по разным отраслям знания, имел бы несомненный успех, т.к., кроме огромной потребности в таком "Новом органе", для него есть несомненно и достаточно сил. В каждой стране, в каждом важном начинании такой орган мог бы без труда иметь собственных корреспондентов, которые из первых рук снабжали бы его материалом. Нельзя достаточно настаивать на необходимости основания такого общества и органа. Только такой новый орган может держать широкие слои общества в курсе всего лучшего, что делается и пишется в мире. Теперь же можно выписывать и прочитывать десяток журнальчиков и не быть в курсе происходящего, совершенно непроизводительно тратя много времени и денег. Только издание такого энциклопедично-прогрессивного органа может уничтожить это вредное разделение, и приобщить к лучшим движениям времени широкие слои общества. Поэтому всякий, желающий служить улучшению и просвещению общества, прежде всего должен приложить свои силы к созданию такого всемирного общества с его "Новым органом". В противоположность художественному творчеству, в котором могут плодотворно работать только высокоодаренные исключения, в устройстве такой критики всякий может приложить свои усилия. Богачи, желающие дать свои деньги на действительно доброе и несомненно полезное дело, должны жертвовать их на такое общество, вместо того чтобы тратить их на разные узенькие и не достигающие цели затеи, вроде "Нобелевской премии" или того дворца мира, который г. Корнеджи строит в Гааге. Люди, богатые только своими силами, должны отдать этому делу весь свой досуг. Дело это замечательно тем, что нет человека, которого оно не могло бы интересовать и нет грамотного человека, который не мог бы работать для него, работая в то же время и для своего серьезного просвещения. И не может быть ни малейшего сомнения в том, что только от возникновения и успеха такого общества зависит спасение просвещения, а с ним и нашей цивилизации. Деятельность всевозможных просветительных партий и обществ может иметь значительное влияние только при таком обществе, как органические разветвления его, без него же все разрозненные попытки улучшения бесчисленных обществ и партий подобны тому, что делали бы люди с затонувшей лодкой, поднимая над водой одну сторону ее и вместе с тем погружая в воду другую. Разумная общественная жизнь может быть создана только просвещением общества. Просвещение же настоящее, влияющее на жизнь, может быть только всестороннее, стройно-цельное. Без этой всесторонности оно может только запутывать и разделять людей. Соберите трех интеллигентов вместе, и послушайте, о чем и как они говорят, и вы на деле увидите все запутывающее и разъединяющее влияние того, что считается у нас наукой. Для всякого серьезного передового человека все современные стремления к улучшению и всемирному объединению, с помощью эсперанто, и исправления нашего глубоко-отупляющего своей систематизированной нелепостью правописания, непротивления и новых методов воспитания, – это все различные радиусы одного и того же разумного и серьезного просвещения, до которого в 20 веке доросло человечество. И если окончательно не выродились, не перевелись в наше время серьезные люди, я глубоко убежден, что они перед огромной важностью этой задачи забудут на время свою занятость и объединятся для ее осуществления. Во всяком случае как бы мало сочувствующих ни оказалось, всем, кто понял значение этого дела, следует спешить объединиться для такой взаимной помощи в деле своего просвещения. Для мыслящих, после смерти Толстого, другого прибежища нет и не может быть. №9-10, с. 1-7 Основной практический вопрос, который со смерти Толстого не переставая решался и решается в печати, во всевозможных обществах и собраниях, это — "как почтить" или "как увековечить память Толстого". Много глубоко трогательного было в этом всеобщем сочувствии, которое из всех стран и из всех слоев общества было выражено по поводу смерти великого пророка. Тем более, что, как и при 80-тилетнем юбилее его, это было сочувствие не только необычайным его художественным способностям, но, и часто главным образом, чуткости и привлекательности его духовного облика и глубокой истинности его миросозерцания. Но, к сожалению, этим дело не ограничилось: кроме мыслей и слов, обществу показались нужны дела, и явились тысячи проектов "почтения и увековечения памяти" Толстого. К сожалению, слова эти не имеют ясного смысла. Неясность их заключается в том, что, предполагая известные поступки, они не указывают на цели их, на то для кого будут делаться эти поступки. Еще к большему сожалению, надо сознаться, что неясность этих слов совершенно неслучайна, а что все пользуются именно таким способом выражения, для того, чтобы придать важный и значительный вид деятельности, которая, если определить ее точно, будет иметь совершенно иное значение. Прием этот самый обычный. Почти все слова, имеющие более или менее неясное, отвлеченное значение, употребляются в нашем обществе именно для скрытия истинного значения дела или предмета, которые они обозначают. Имя этим словам легион: от слова цивилизация (для оправдания безумия жизни интеллигенции) до масленицы, Татьянина дня и бесчисленных юбилеев (для оправдания постыдного обжорства, пьянства и болтовни), они все имеют всегда определенный, тщательно скрытый смысл и никакого разумного значения. К сожалению, то же и со словами "почтение памяти", не только Толстого, но вообще каждого уважаемого человека. Самые разнообразные поступки подходят под это определение: постоять минуту на ногах с значительным, сосредоточенным выражением, петь, много есть и пить, покупать странные дорогие венки, из какого угодно металла или из растений с лентами, на которых можно писать, что угодно, даже язвительные для правительства слова, поставить на мосту или на площади большую чугунную куклу, на голову которой будут садиться птицы и пачкать ее, и тысячи других поступков, все это делается для почтения памяти. Поступки эти кажутся сначала совершенно невинными, но стоит внимательно вникнуть в скрытую цель их, и станет ясно, что поступки эти несомненно дурные. Я знаю случай, как долго и тяжко болел учитель одного известного института. Сослуживцы о нем совсем забыли и последние месяцы жизни ему не на что было купить лекарства. Но не успел он умереть, как начальница в несколько дней собрала 400 руб. на венок и катафалк. Вот что значат слова "почтение памяти"! Достаточно задать вопрос: для кого делаются все странные дела, называемые этим именем, чтобы стала ясна вся преступность их. Для кого надо было истратить 400 рублей, т.е. по крайней мере, 400 тяжелых рабочих дней вместо 2-3 необходимых, чтобы закопать мертвое тело? Разумеется, не для несчастного учителя. Если же не для него, то значит для нас, но тогда это ужасно! Ужасно это потому, что вся эта деятельность может для нас иметь только одну цель. Показать друг другу и обществу, какие мы внимательные, чуткие и добрые люди, как мы заботимся о наших сослуживцах. Тоже самое, к великому сожалению, надо сказать и о Толстом. За всю его долгую жизнь общество, русское да и мировое, за исключением нескольких сот друзей, не шевельнуло пальцем, чтобы помочь Толстому в его великих трудах для уяснения истины ни друзьям его. Напротив, оно смеялось над ним (особенно писатели) и всячески замалчивало или извращало его слова. А помочь оно могло бы очень легко тысячью самых разнообразных и всем всегда доступных дел. Русское общество, например, пропивает на 2 миллиона в день одной водки. Если бы оно вздумало провести один только праздник без пьянства, оно бы без всяких лишений могло выкупить несколько Ясных Полян и сохранить себе на один день ясную голову! Если бы оно вздумало не пить совсем, оно могло бы каждый год выкупить миллионы десятин земли, не увеличивая своих расходов, ни на копейку. Но разве можно серьезно допустить, чтобы один человек из ста грамотных хоть задумался над этим в нашем обществе! 30 лет Толстой один на один вел страшную борьбу со всем этим изолгавшимся жестоким миром, с его стихийно-преданным всему дурному общественным мнением. И никому не было дела до него! Я знаю одного престарелого друга Толстого, который имел терпение 12 раз каллиграфически переписать огромное трехтомное "Исследование Евангелия"; остальные труды Толстого этот человек переписывал без числа. Так поступали друзья Толстого, те самые, которые теперь не сказали ни слова о почтении памяти. Что же для него сделали те, кто так озабочен теперь не Толстым, не его писаниями, — а именно "памятью" Толстого! Как будто память о Толстом вот-вот готова исчезнуть! Как тогда, так и теперь до души Толстого, до того самоопределяющегося источника мыслей и чувств, который мы звали Львом Николаевичем, и который, после истины, любили больше всего в мире, до этого Толстого, как тогда, так и теперь им нет никакого дела. Если же они наперебой предлагают тысячи проектов почтения памяти, то цель у них и у всех жертвователей на памятники одна, и только одна. Показать себе и обществу, какие они отзывчивые, любящие, а главное культурные люди! Об этом грустно говорить, особенно над свежей могилой, и можно бы воздержаться, но, к сожалению, в этих заботах о "почтении памяти" общество позволяет себе поступки, нарушающие не только волю умершего вообще, но иногда ясно выраженную последнюю волю его. Таковы, например, памятники бедному, кроткому, много страдавшему Гоголю. И чем он мог заслужить такое варварское презрение к его последней воле!? Его завещание так и начинается заявлением, чтобы не ставили ему никаких памятников! Тоже и с венками на могилу Толстого. Среди магометан, например, подобные нарушения последней воли считались бы величайшим кощунством. Так же печально то, что придумали педагоги и учащиеся в высших школах. С самых первых своих опытов со школами Толстой убедился во вреде и лживости современной школьной и университетской науки и страдания его за те муки и порчу, которые претерпевает в школах молодое поколение, были очень велики. Он так много раз говорил и писал об этом, от "педагогических статей" и до его речи к народным учителям, сказанной в Крекшине у Черткова, и поздних статей в "Календаре для каждого". И что же? Сотням, если не тысячам, таких школ "присваивается" имя Толстого. Учащаяся молодежь учреждает стипендии имени Толстого, в то время как он только о том и писал, что путем того, что называется в наше время образованием, сваливать труд, необходимый для своего существования, на чужие плечи очень жестокое и бесчестное дело. С Толстым можно соглашаться или нет, но людям, которые так озабочены почтением его памяти, нельзя не знать, что к школам и университетам Толстой питал ужас и отвращение, равный его ужасу перед тюрьмами или бойней. Вот к чему приводит та муть в головах, которая возникает от столь любимых в нашем обществе туманных слов! Стоило бы только сказать точно и просто: что нам делать по случаю смерти такого необыкновенного и любимого нами человека, и такие, режущие своей неуместностью, дела над могилой Толстого были бы невозможны. Так как каждый день приносит новые "проекты", то необходимо подробно ответить на этот вопрос. Вопрос этот – что делать по случаю смерти Толстого, — распадается на четыре вопроса, если мы спросим еще "для кого?". Четыре вопроса эти следующие: что делать по случаю смерти Толстого: 1) Каждому для самого себя? 2) Для Толстого? 3) Для его писаний? 4) Для сохранения его трудов? Для самого себя надо сделать то, что вообще следует делать перед каждой смертью: вспомнить Бога. Неграмотные люди, как умеют, всегда делают это, но образованным это надо объяснить. Вспомнить Бога значит почувствовать и понять, что великая перемена, происшедшая с нашим дорогим учителем, которую мы называем смертью, каждый день и каждый час ожидает нас, то есть, что хотя мы кажемся себе свободными, на самом же деле находимся всецело во власти неведомого Хозяина; поэтому нам нельзя не желать и не напрягать своих сил на то, чтоб исполнить его волю или, что то же, наше назначение в этой жизни. Назначение же наше в проявлении во всей их полноте наших высших свойств: т.е. разумности и доброты. Проявить свою разумность значит, что всякий раз, когда какая-нибудь частичка истины, которую так старательно гонят в нашем обществе, найдет свое последнее прибежище в нашем разуме, мы не изгоним ее оттуда ни табачным дымом, ни водкой, ни театром и тысячью самых разнообразных средств, но окружим ее всем своим вниманием, возрастим, расширим и укрепим и передадим на спасение людям и потомству. Проявить свою доброту значит всякий раз, как какое-нибудь живое существо, а особенно человек, будет находиться вполне или отчасти в нашей власти, мы будем стараться помочь ему из всех сил, на какие только способны, а не воспользуемся случаем добить его, пользуясь тысячью придуманных нами лживых ширм и изворотов, чтобы скрыть весь ужас нашего злодейства. Так, например, сенатор Берд, в "Хижине дяди Тома", накануне проведший закон против укрывательства беглых невольников, приютил у себя беглую рабу и лично отвез ее, ночью по бездорожью, в надежное место. Так и полицейский инспектор Жавер, в "Les miserables", отпустил на свободу беглого каторжника, спасшего ему жизнь, а сам утопился, не допуская возможности нарушения служебного долга. Так, как сообщалось в газетах, один нищий пришел из Москвы на могилу Толстого и клялся больше не пить, не курить и честным трудом добывать себе пропитание; или комиссия общества распространения технических знаний предложила снять запрещение с сочинений Толстого. Весть о кончине Льва Николаевича, проникшая в самые отдаленные уголки, особенно взволновала баптистские и молоканские селения, — телеграфировали из Омска. Группа молокан приезжала издалека к одному местному толстовцу и просила достать, за какие угодно деньги, полное собрание сочинений покойного. Все эти дела и множество подобных вполне разумны и целесообразны. Вспомнить этот свой основной и единственный долг проявлять в этой жизни всю свою разумность и доброту и постараться набраться сил для исполнения его – это первое, что должен делать каждый человек над каждой могилой и особенно над могилой Толстого. Мадзини в своем замечательном письме о бессмертии прекрасно выразил это21. 2) На вопрос, что теперь делать для Толстого, приходится ответить, что, увы! О Толстом надо было заботиться, пока он был жив. Теперь же на нас так и останется тот великий позор, о котором я уже говорил, и все, что мы можем сделать, это стараться помнить об этом своем преступлении и на будущее время быть повнимательней к своим учителям. 3) Что делать с сочинениями Толстого? Во-первых, читать их. Трудно найти более печальное зрелище, чем то, которое представляет умственное состояние нашего общества. Склонное думать, что оно очень просвещенно, оно на самом деле не умеет даже читать. Я говорю это совершенно серьезно. Наше общество читает от скуки или, в лучшем случае, для пустого упражнения ума, как раскладывает пасьянс или делает гимнастику, вполне убежденно, что у чтения не может быть другой цели. На самом же деле читать надо для своего просвещения, для того, чтобы понять сущность своего положения и установить точное отношение к самому себе и к окружающему. Все те, далеко не столь многочисленные книги, которые действительно стоит читать и печатать, писались исключительно с этой целью. Писались они в течение долгих лет людьми с гениальными способностями, всю жизнь свою посвятившими изучению предмета. Поэтому читаться и перечитываться они должны с тем же вниманием и усердием. Будь это философское исследование или художественное произведение, читатель должен с величайшим старанием проникнуть разумом и сердцем в самую душу писателя и отчетливо, опровергнув, если окажутся, ошибки и неточности, всосать в себя и сжиться с тем, что есть у него доброго, истинного. Для этого великие книги должны читаться и перечитываться несчетное число раз. В былое время так читались единственные распространенные тогда книги: Библия и жития святых, и чтение это создавало людей такого закала, как, например, великие борцы за освобождение негров в Америке или лучшие представители духоборов. Тщетно мы стали бы в наше время искать людей подобной душевной ясности и твердости. Вот что значит уметь читать. От всего печатного хлама, окружающего нас, надо, как говорит Шопенгауэр, "отплевываться", а все свое внимание сосредоточить на величайших книгах человечества, среди которых многие религиозно-нравственные труды Толстого занимают первое место. "Круг чтения", "Учение Христа, изложенное для детей", "Так что нам делать", "Царство Божие", "Исследование евангелия", "Рабство нашего времени", "Крейцерова соната", "Что такое религия", и многие другие должны быть настольными книгами в каждой семье. Вскоре после ссылки Гусева Лев Николаевич писал мне, что не желает более "продолжать впускать, как это говорил Рескин, несомненные истины в одно длинное ухо мира для того, чтобы они, не оставляя никакого следа, тотчас же выходили из другого". Едва ли серьезный, любящий истину мыслитель может сказать что-нибудь более горькое. И если б современное читающее общество сумело, хоть при чтении основных трудов Толстого, устраивать у себя между ушами некоторое задерживающее истину и доброту приспособление из своего разума и сердца, оно сделало бы великое дело и лучше всего другого доказало бы этим свою любовь и уважение к умершему, которые оно так суетливо стремится выразить памятниками, гражданскими панихидами и т.п. самыми странными делами. Во-вторых, сочинения Толстого надо понимать. То, что надо делать, чтоб понять книгу, прекрасно объяснено Толстым в статейке "Как читать евангелие". Там сказано, что надо отметить все вполне ясные места и затем менее ясные стараться понять в том смысле, какой им могут придать более ясные. В-третьих, можно распространять сочинения Толстого. С этой целью их можно покупать, советовать читать, читать публично, издавать дешево и продавать; можно даже просто переписывать. Это исправляет почерк и составляет прекрасное и чрезвычайно полезное препровождение времени. Если бы все изнывающие от тоски дачники вздумали посвятить в течение лета часа два в день на переписку лучших, важнейших произведений великих мыслителей, за 10 лет они обновили бы мир. 4) Что делать для сохранения памяти Толстого? Прежде всего надо ясно понять, чего не следует делать. Все эти жалкие памятники, которые хотят ставить и уже ставят Толстому, были бы только смешны, если б для их сооружения не требовалось столько труда людского и если бы они не оскорбляли чувства самого элементарного уважения к личности Толстого. Если провалится не только предполагаемый тульский мост с чугунными статуями Толстого, но если исчезнет вся Россия, вся Европа, память о Толстом будет так же жива среди читающего человечества, как в наше время. Одна только опасность грозит ей – это порча и гибель его книг от времени, от пожаров, от безумия войн и стихийных бедствий, как и от нечестности издателей, которые когда-нибудь могут вздумать уродовать его труды. Поэтому нет таких мер для предупреждения этих бедствий, не только в наше время, но и через тысячи лет, которых нельзя было бы не признать насущно необходимыми. Белые народы так старательно разъяряют и вооружают Восток, так бессовестно и бесчеловечно эксплуатируют его, что, быть может, недалеко то время, когда нас постигнет законная кара. И забота о спасении духовного наследия, которое с такими героическими усилиями было создано в нашей цивилизации, есть одно из серьезных дел нашего времени. Первое место среди этого наследия занимают религиозно-нравственные сочинения Толстого. Отчеканить русские оригиналы их на металлических листах, и устроить книгохранилище, которое, подобно египетским пирамидам, лучше всего способно было бы противостоять времени и стихиям, – это самое лучшее, что могли бы сделать современники для сохранения сочинений Толстого для грядущих веков. В.Г. Чертков на свои личные средства, не ожидая смерти учителя, выстроил в Англии подобное книгохранилище из железа и цемента, которое, как мне рассказывали, даже в случае землетрясения, не разрушится, а провалится целиком. Этим он доказал свою любовь к истине и к Толстому. Человечество же современное, богатое, читающее, человечество, расхищающее такие сказочные богатства для своего одурманения и пошлой забавы, если б оно в самом деле серьезно ценило просвещение, отчеканило бы лучшие и основные религиозно-нравственные труды Толстого на золотых листах и в песках Египта построило бы пирамиду, больше пирамиды Хеопса, для хранения оригиналов драгоценных книг, которые когда-нибудь обновят человечество. Знаменитый Эдиссон недавно писал о том, что вскоре никелевые листы заменят в печати бумагу. Если бы первой книгой, напечатанной на металле, был перевод Евангелия Толстого или его "Царство Божие", общество 20-го века показало бы, что оно действительно начинает вступать в зрелый возраст. Для того, чтоб положить начало этому делу, достаточно сочувствующим напечатать воззвание и открыть сбор пожертвований. Если в обществе 20-го века есть люди и силы на это, они немедленно откликнутся. Вот то единственное, что не только разумно и целесообразно, но, если относиться к делу серьезно, — необходимо сделать для великих трудов Толстого. Что же касается статуй и аллегорических памятников, то потребность в них может возникнуть иногда в душе гениального и вместе с тем вполне понимающего и всей душой разделяющего миросозерцание Толстого художника. Суетливое же вмешательство в это дело общества, большие денежные суммы, публичные обсуждения, хотя бы даже обществом художников, из которых, кроме Орлова и покойного Н.Н. Ге, никто не разделял не только миросозерцания Толстого, но даже тех элементарных истин, которые он раскрыл в своем исследовании об искусстве, могут создать только жалкие и пошлые подделки под искусство, которыми так отвратительно безвкусно заполнены наши кладбища. Спасти память Толстого от этой великой пошлости, как и от затраты для его имени сотен тысяч рабочих дней на дело, которое при жизни заставило бы его глубоко страдать, это было бы великим проявлением серьезного отношения современного общества к памяти Толстого. Ведь отложило же оно, по личной просьбе Толстого, всякие чествования его в 80-тилетие его. "Пусть мертвые хоронят мертвых". У живых же и так не достает ни времени, ни сил для дела жизни. В. 1- "Кто виноват". "Русское слово", № 269, 21 ноября 1910 г.2- См. статью "Паскаль" в "Круге чтения".3- На русском языке имеются только "Очерки критической философии", изд. "Посредник", 1901 г. Цена 75 к.4- См. большое "Предисловие к сочинению Бондарева"; полное собрание сочинений том XIV.5- Во всей Западной Европе до Лютера евангелие не было переведено с латинского и было доступно только духовенству.6- Замечательно, что и П. Кропоткин не избег подобного отношения к этой науке о производстве, распределении и потреблении богатства. В.7- Л. Толстой "Что такое искусство", стр. 230 и 231. Пол. собр. соч. т. XV.8- Все эти обряды, установленные мудрецами талмудической эпохи, имели в то время для еврейского народа большое значение. Редакция "Вегетарианского обозрения".9- Изд. "Посредника"; ц. 15 к.10- Тоже.11- Книжечка Н. Жаринцовой "Объяснение полового вопроса детям" представляет удачную попытку в этом направлении.12- Изд. "Посредника"; ц. 30 к.13- Часть в "Круге чтения".14- Изд. "Посредника".15- Отрывок см. в "Календаре для каждого" за последние пять лет.16- Изд. "Посредника".17- О Сютаеве см. в книге Пругавина "Религиозные отщепенцы"; изд. "Посредника".18- "Крестьянин" Поленца. Изд. "Посредника". Предисловие; стр. VII.19- Там же стр. IX.20- Там же; стр. XIII.21- См. "Полное собрание сочинений Л.Н. Толстого".
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!