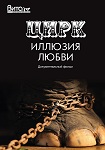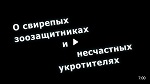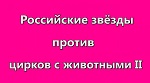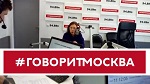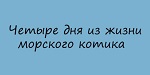|
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 
Формат jpg. 180Kb |
Вегетарианское обозрение, Киев, 1911 г. ВО.9-10.1911, с. 37-41 Никуда не уйдешь... Очерк Полумрак царит. Душно в конюшне. Запах свежего сена дурманит. Тяжелой медленной походкой подошел Матвей к стойлу. Отодвинул засов. Встрепенулся Гнедко. Легко ржанье, топот тонких ног, движение смутного беспокойства. В отворенную дверь ворвались лучи заходящего солнца. Мягкая морда доверчиво ткнулась в плечо кучера, он ласково погладил ее, осторожно накинул недоуздок. При этом движении суровые, словно вечно страдающие глаза Матвея встретили меланхолический взгляд животного... Дрожь ледяной струйкой пробежала по спине, сердце больно сжалось. Матвей отшатнулся... – Опять! – сказал он тихо и перекрестился... Не подымая больше глаз, вывел лошадь из конюшни. Статен Гнедко под английским седлом, ярко блестит атласистая шерсть, темный хвост слегка развевается на ветру; выгибается шея, нетерпеливо бью копыта, пока кучер подтягивает подпругу, перебирает, распутывая, повода. Матвей, скоро? – Слышится с крыльца вопрос барина. – Подаю... Смолк лошадиный топот... Улеглась пыль. Смотрит Матвей вслед ускакавшей лошади, смотрит уныло, растерянно... Что-то надо делать... Куда-то идти... Да... Надо овса лошадям засыпать, сена подложить... Только... Сил нет... В конюшне теперь темно... Опять в темноте померещится что-нибудь... И он не пошел в конюшню, а сел на лавочке возле каретника, оперся локтями о колени и спрятал свое бородатое лицо в больших мозолистых ладонях... Согнулась вся его могучая, крепко сколоченная фигура, словно надломленная... Он ни о чем не думал – перед ним стояли грустные, страдающие глаза животного и о чем-то горячо и убедительно молили. И от этой мольбы по спине Матвея ползли мурашки, сердце мучительно ныло и замирало, в голове стучала разгоряченная кровь, туманя мысли, преувеличивая выдвинутые памятью образы прошлого, слишком ярко освещенные ею. Вот он очнулся, тряхнул головой, поднялся с места, повернул на дорогу и мерными быстрыми шагами направился к деревне. Вечер стоял тихий, ласковый, полный неги и привета. Заря янтарными бликами догорала на горизонте. Серовато-желтое одинокое облако, – все пронизанное золотом лучей, – остановилось, словно застыло распростертое... Стрекозы вели монотонную гармоничную песню, лягушки квакали немолчным хором; коростель от времени до времени подавал унылый голос из далекого болота... И все эти вечерние жалобные звуки переполняли больную душу Матвея тихой, безысходной, неутолимой тоской. Тени сгущались. Невысоко над лесом вырезался молодой месяц, яркий, как шлифованное серебро. Зажглась бледным томным светом звездочка-спутник... Опушка леса темнела мрачным силуэтом. Жутко в лесу... Вот дерево покосившееся, спутанными причудливо ветвями дало странную тень, заставшую Матвея отшатнуться... И куда уйдешь от этих глаз, грустных, молящих? Они выглядывают из темных ветвей, они смотрят с ночного неба, они подстерегают, спрятавшись за стволом векового дуба... В слабой борьбе с расстроенным воображением Матвей остановился, истово перекрестился... Но страх все крепче сжимал его сердце, туманил голову... Он уже больше не мог владеть собой. Желание как можно скорее выбраться из лесу властно охватило его – он прибавил шагу, затем побежал и, уже не помня себя, помчался прочь от кошмара... ... А тени неслись за ним, не позволяя оглянуться и грустные глаза молили о чем-то, жаловались на что-то..................................... Дарья – жена Матвея – первая заметила исчезновение мужа: ей понадобилась его помощь – лохань вынести. – Матвей! Матвей! – высунувшись из окна кухни громко призывала она. Матвей не отзывался, и выждав время, она побежала в конюшню, в каретник, обежала двор; спросила дворника – не видал ли? Горничную Аннушку... Садовника... Никто не знал, никто не видал. Даша опечалилась. – Опять за водкой убежал! – сокрушенно вслух сказала она, и отуманились ее и без того грустные глаза, глаза женщины, много страдавшей, много горя видевшие, усталые... – Федор Дмитрич! – попросила она дворника – уж яви Божескую милость – прими у барина Гнедка, а я пойду овса засыплю лошадям... Не было в сердце ее гнева, обычного гнева, что переполняет сердце жен запойных пьяниц, жен-мучениц... Была жалость, было глубокое сострадание, ноющая боль... Дарья молча переходила из стойла в стойло, стучала засовами, гремела ключами; взобравшись на сеновал, схватывала охапки сена, бросала их вниз; наливала воду в колоды для водопоя, спокойно, деловито выполняя всю мужнюю работу... А сердце щемило и на плечи давило что-то, словно она вновь ощутила забытую, было, стопудовую тяжесть житейского горя... – Порченный... – тоскливо думала она, – порченный... Надо поскорее обрядить лошадей да идти готовить господский ужин... А там – долгая ночь ожидания... На рассвете, если он не вернется, она пойдет в деревню... Она знает, где искать мужа. С месяц не пил... – уныло думает она, – видно опять померещилось... Чуяло мое сердце – с утра насупился... Ох, Господи, Господи, за что? – слабо ропщет женщина. – За что напасть такая? ............................. Темная безучастная ночь слышит вздохи Дарьи, намученной трудовым днем, тяжелым горем и жгучей тревогой ожидания... Под покровом этой ночи выбрался из деревни много выпивший, но почти не охмелевший Матвей. Все так же лихорадочно быстро работает мысль, все также ярко рисует прошлое память... Все так же жалобно глядят на него страдающие, молящие глаза, только страх улетел далеко - не пугает лес, не страшит мрак ночи, хруст ветвей под ногой не заставляет вздрагивать... Ноги ослабли, ноют. В голове шумит. Он бы давно прилег на мягкую влажную траву, да мысль о жене, о том, что она ждет, ищет его,- эта мысль толкает вперед по дороге. – Мается, болезная... намаялась... Думает он о Дарьюшке – смолоду намаялась... И перед его мрачными глазами встает воспоминание. Давно это было – не больше года прошло, как они поженились. Хворь его тогда одолела: горячка ли, трясовица ли, только пришлось ему в больницу лечь и больше двух месяцев он провалялся – как еще жив остался... Вышел из больницы – ни сил, ни должности... Даша первеньким ребеночком на сносях была, и она без места. Какая же работа баба в тягости? С малолетства Матвей в конюхах да кучерах служил и без места не сидел - счастье что ли такое было. А как вышел из больницы - заколодило: куда ни ткнется – нигде не нужен... Не милостыни - работы просил - хоть бы какой, а, как нищего, гнали, да еще насмехались. Тяжело было жить: голодные, в грязи, в тесноте, в вонище... Даша была чистеха – пуще мужа всем этим мучилась, больная, слабая, кожа да кости... Никто уж больше и в долг им не верил. В заклад нести нечего. Из одного угла гонят, в другой не принимают... О ту пору и сынишку Петю Даша родила, маленького да хилого; родила ребенка и сама захирела. До того веселая была баба, работящая, да и песенница, а тут - голосу не слышно, ровно тень, бродит. Плачет Петя у Дашиной пустой груди, теребит, кулачонками бьет... Даша над ним наклонится низко-низехонько, трясется вся, слезами сыночка горемычного обливает. Льются-льются слезы материнские, свинцом тяжелым ложатся отцу на сердце... Тяжко было Матвею. Спервоначалу храбрился, потом горевать стал, духом упал, захандрил, а там огрубел, словно сердце в нем очерствело от обиды, от неудач, от людской жестокости... И что ни день – то черствей, что ни день – то злей он становился. На Дашу руку поднимал! На нее, на молчальницу. Сам не знал за что... куда его доброта, куда его повадливость девалась? Много так дней прошло. Услышал как-то Матвей в разговоре, что на городской бойне боец нужен – палач скотский. На что уж скотину любил, в другое время слушать бы не стал, а тут, как за спасение, схватился: сейчас же на бойню марш. Только Даше ничего не сказал: знал, что с голоду бы она померла, а не отпустила бы на такое худое дело. Пошел, нанялся. И начал работать. Помнит Матвей и по сю пору, как сердце его злобой ко всем людям кипело, и как злобу эту он на скотине ни в чем неповинной выместить хотел. Как хватит это быка, бывало, по правилам – по лбу... Замычит тот жалобно... А Матвей, нет, чтобы скорей еще раз, да еще раз ошарашить - выждет момент: вот-де тебе за то, что я палачом скотским стал! Вот же тебе за мое горе-несчастье! За мой стыд... Глядит, как мучится скотина, а сердца в нем нет... Жалованье там платили хорошее. Жить и Даше стало легче, только очень уж она убивалась, что муж в мясниках. – Уйди, говорит уйди с этой службы, не будет нам счастья.... И мясное есть перестала, вечный пост на себя наложила... Сынок ихний плохо поправлялся – хилый рос. Тогда же Матвей и попивать стал, с бойцами, да с мясниками за компанию: народ-то они все грубый, богохульники, ругатели... От такой компании доброго не наберешься......................... Пришел раз с работы Матвей. Видит – плачет Даша горько. – Что ты? – Петюша помирает... К доктору носила – сказал: не жилец... Ничего не молвил Матвей, посмотрел на мальчишку: худющий, кости да кожа, потемнел весь, стонет еле слышно, глазами ворочает... И что за глаза были! Мука-мученическая... Пожалеть бы надо и сынка и жену... А у Матвея сердце каменное, глаз Петиных страшно, а жалости нет... Повернулся, ушел из дому, в веселую компанию... Палач-палачом. Помер Петя. Схоронили. Даша рекою разливается, день и ночь плачет... У Матвея ни слезы, ни жалости, ни молитвы – знай в свою должность проклятую ходит, да по трактирам шатается..................... Вышел случай однажды – привезли теленка на убой. В том городе мало их на бойне кончали – видно, всякой по домашности для себя колол. Как сейчас, Матвей видит того теленка: беленький, шерсть нежная, тело розовое, равно детское, сквозь нее просвечивает... Черные пятна пораскиданы по шкуре, по лбу звездочка махонькая... Сняли с телеги связанного. Мычит таково жалобно, словно ребенок, словно Петюшка плачет. Глянул Матвей на телка, и вдруг чует – жалость в нем! К родном сыну, к жене жалости не было, а тут – поди же ты! – к скотине! Таково-то чудно ему стало. Подошел ближе, а теленок, как нарочно, обернулся, промычал, тянется, тыкает мягкой теплой мордой в руку. Наклонился к нему Матвей, да так и обмер – глаза увидел. Словно сынок, словно сынок Петюшка из этих глаз скотины выглянул. Словно говорят эти глаза, словно просят, словно сердце каменное тронуть хотят... – Не подымай руку на меня, дай еще пожить, дай на солнышке погреться, травки пощипать... Отвернулся Матвей. Стоит, как истукан. Похолодел весь... Бойцы заметили, смеются, изгиляются... – Что, Матвей, аль скотине, помилование вышло? Не вытерпел Матвей их смешков, рассердился, схватил нож и прикончил разом теленка... Да только как опускал руку, опять глаза встретились... Просят... Жизни просят... И нет теперь покоя от этих глаз, никуда от них не уйдешь... Запил тогда горькую. Из бойцов ушел. Чуть с голоду не померли: что ни наработает Даша, все Матвей пропивал. Потом остепенился, на исповедь сходил, покаялся. Разрешил грехи батюшка, эпитимию наложил: не есть мясного. Молитву дал от наваждения – не всегда помогает... Как начнет грызть тоска, как начнет... Да и на Дашу тошно глядеть – хоть и молчит, скрывает, а и она тоскует бедная... Тоскует... Не благословил их Бог больше детками, ноет ее осиротелое материнское сердце....... ................ Быстро шагает Матвей. Близко усадьба. В кухне огонек слабо светится... Это Даша не спит. Лидия Тычино
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!