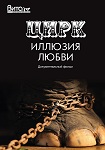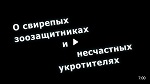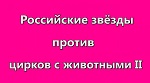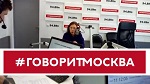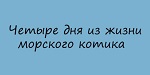|
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 
Формат jpg. 180Kb |
|
Проект "Виты" по восстановлению истории дореволюционного русского вегетарианства __________________________________________________________________
Вегетарианское обозрение, Киев, 1912 г. ВО.5.1912 Л.Л. Заменгоф
Как я сделался вегетарианцем, и почему перестал употреблять в пищу молочные продукты и яйца. Главные побуждения, заставившие меня сделаться вегетарианцем, были нравственного, морального характера. Я никогда равнодушно не мог видеть ужасных окровавленных кусков мяса, из которых наша мать приготовляла нам обед. Я, попросту говоря, боялся и чувствовал непреодолимое отвращение к тому, чем питали нас. С детства отличаясь жалостливым характером, я никогда не позволял ни себе, ни другим бить и мучить животных. Много приходилось мне переживать неприятных минут, когда я, найдя на улице брошенных котят или щенят, подбирал их и тащил домой: домашние, обыкновенно, сердились, говорили, что нельзя же подбирать всех кошек и собак, что у нас и так целый "зверинец", и прочее. Но в конце концов, я знал, что мать никогда не выбросит принесенных животных и первая станет кормить их из соски молоком, вставать к ним по несколько раз ночью и, вообще, будет ухаживать за ними, как самая нежная, заботливая самка-мать. Мои сестренки и братишки также принимали самое горячее участие в воспитании наших питомцев, и отрадно было видеть, как осторожно и заботливо они кормили их, обмывали или укладывали спать. Проходило месяца три-четыре, и из маленьких, слепых и беспомощных котят или щенят вырастали красивые, грациозные животные, которых уже все любили и считали членами нашей семьи. А потом все оканчивалось к общему удовольствию: знакомые настойчиво просили лишних, воспитанных нами животных, и никакого "зверинца" не оказывалось в нашем доме. Своих воспитанников мы отдаем с одним условием: в случае, если взявшие будут недовольны поведением нашего питомца, то они отнюдь не должны его выбрасывать, а обязаны возвратить нам. И не было еще ни одного случая, чтобы среди наших воспитанников оказались "блудные сыновья". Но, несмотря на жалость и сострадание к животным, я продолжал пожирать самых кротких и беззащитных из них. Мой разум, мое критическое отношение к жизни еще дремали. А как только они пробудились во мне и стали неотступно требовать разрешения различных вопросов, так тотчас же и жалость к животным получила разумное и справедливое применение – 19-ти лет я отказался от мяса. Никаких особенных усилий не потребовалось – все произошло легко и просто. Отпала старая, сгнившая шелуха, чтобы дать возможность зерну увидеть свет. Но трудно было мне отказаться от рыбы, и не потому, что я очень любил рыбную пищу, а потому, что этот вопрос был связан у меня с природой. Охотиться, я никогда не охотился, и до сих пор не знаю, как стрелять из ружья. Но рыбная ловля была моя страсть. И любил я ее особенно потому, что, уезжая дня на два, на три на "рыбалку", я все это время чувствовал себя свободным, счастливым, беззаботным, в самом близком и радостном общении с природой. Частые неудачи, в смысле улова рыбы, никогда не обескураживали меня. Привлекал простор воды, красота темной ночи, яркие костры, великолепие раннего утра, восход солнца. Всего этого в городе я не видел, а здесь осязал и чувствовал всю красоту окружающей природы. Особенно полюбил я рыбную ловлю позже, когда вступил в юношеский возраст и, настойчиво ища ответов на запросы своего духа, я испытывал резкие, неприятные столкновения с своими родителями. Меня всегда угнетали эти ссоры и взаимное раздражение. И вот, в особенно тяжелые минуты, после какого-нибудь крупного разногласия, я объявлял: едем на рыбалку! И все тотчас же менялось. Отец начинал искать свои старые, "рыболовные" очки, переодевался, суетился. Мать и ребята быстро и весело собирали необходимые принадлежности, завертывали чай, сахар, хлеб, насыпали картошки, копали червей, собирали удочки, переметы и прочее. Скоро все оказывалось готовым. Нагружались веслами, парусом, якорями для переметов, забирали все принадлежности и припасы и спускались под гору, к лодке. Отец, я, двое-трое ребят усаживались в нее и отплывали от берега. Мать стояла на яру и провожала нас взглядом до пристаней, где наша лодка скрывалась среди пароходов и барж. Плыли верст 30 по Иртышу, затем по Тоболу, на берегу которого и выбирали подходящее место для рыбалки. Натягивали палатку, разводили костер, принимались за ловлю. И какими вкусными казались чай и картошка, сваренные здесь, на берегу! Как широко и привольно дышалось всем и как свободно лилась песня из груди! Все неприятное и тяжелое забывалось и исчезало. Семья снова становилась тесной и дружной. Домой возвращались усталые, но довольные, и мир надолго восстанавливался среди нашей семьи. Особенно приятное воспоминание осталось у меня от поздних осенних поездок на рыбную ловлю с отцом, когда ночью около берегов появлялись забереги, а весла и борта лодки покрывались толстым слоем льда. На место приезжали, обыкновенно, ночью, а потому втаскивали лодку на берег, устраивали палатку, разводили перед ней костер и забирались в нее спать до утра. Еще вчера мы спорили с отцом, были взаимно раздражены, а сейчас, накрывшись шубой и тесно прижавшись друг к другу, засыпали спокойным сном. Исчезла неприязнь, восстанавливались дружеские отношения. Вот за это-то я и любил рыбалку, любил природу, что она действовала на нас примиряюще, исцеляла наши смятенные души. Но скоро я почувствовал, что здесь что-то неладно. На рыбу, как на живое, страдающее существо, я не обращал внимания, или, вернее, старался не замечать ее страданий. Но скоро я увидал ужасное, немое страдание, которое глубоко потрясло меня и заставило отказаться и от рыбной ловли, и от рыбной пищи. Однажды я поймал крупного окуня на перемет. Окунь – рыба жадная, и весь большой, почти вершковый крючок с наживой он проглотил. Я вынул рыбу из воды, отрезал лесу, на которую попался окунь, и положил его в лодку. Здесь впервые, я и увидел, как страдает и мучается немое существо: прекрасные большие глаза окуня позеленели, рот был широко раскрыт и сам он бился и метался на дне лодки. Сердце у меня перевернулось. Я не мог есть ухи, сваренной из этого окуня. Вскоре я поймал трех стерлядей. Домой приехал я часов в восемь утра, когда уже топилась печь. Матери нужно было варить уху, а стерляди не засыпали. Они лежали на столе и быстро, быстро открывали свои маленькие, пухленькие ротики. Мать долго ждала, чтобы они заснули, но стерляди продолжали жить. Тогда она стала резать их живых. Я не мог уйти из кухни и смотрел на то, как разрезанные на части, стерляди все продолжали судорожно двигать ротиками и вздрагивать хвостиками. Стол, на котором их резала мать, был покрыт кровью, свежими внутренностями и чем-то слизким и отвратительным. Какими гнусными палачами показались мне я, принесший этих беззащитных, несчастных рыб в кухонный застенок, и моя мать, так безжалостно резавшая и потрошившая их! Вскоре после этого я отказался от рыбы и от своей любимой рыбалки. Напрасно я старался приводить в пример себе Христа, который при всей своей великой любви и жалости, ел рыбу; напрасно приводил тот довод, что отказавшись от рыбалки, я лишаюсь благотворного влияния природы, что прорывается та нить, которая, несмотря ни на что, связывала и дружила меня с отцом. Ничто уже не могло успокоить мою взбаламученную совесть. И как только я отказался от рыбы, так сразу же стало легко и радостно на душе и исчезли всякие сомнения, так долго мучившие меня. Возбужденный и взволнованный я ходил по комнате и доказывал отцу, что верх гнусности и жестокости мучить существо, которое ничем не может защититься и даже выразить свое страдание. На следующее лето меня уже не тянуло на рыбалку. Я ходил по лесам, полям, катался на лодке, и чувствовал, что природа так же ласково и любовно относится ко мне, как и прежде. Почти одновременно с отказом от рыбы, я отказался и от молочных продуктов и яиц. Отнятие теленка у коровы и убой его послужили для меня причиной, заставившей отказаться от молока. У нас была одна корова, кроткая, смирная до удивления. В ее стайку забирались не однажды чужие коровы, выгоняли ее оттуда и съедали все сено, а она покорно стояла у хлева и дожидалась, когда уйдут непрошенные гости. О ее необыкновенной кротости проведали даже куры, которые жили с ней в стайке всю зиму. В сильные морозы они забирались на ее спину и преспокойно располагались там до утра. И ни разу она не подала виду, что ей неприятно такое близкое соседство многочисленных квартирантов. Но бесцеремонность кур простиралась еще дальше. Как только корове приносили пойло, они тотчас же облепляли шайку и вылавливали оттуда куски хлеба, отруби и другие съедобные части, а корова стоит в стороне и ждет, когда ей будет позволено напиться. У этой коровы был бычок. Его скоро отняли у нее и продали мяснику. Корова сначала дико, безобразно кричала, бегала по двору, ища своего теленка. Затем успокоилась и только жалобно мычала. Когда мать приходила ее доить, она поворачивала к ней голову, смотрела на нее большими, страдающими глазами, тихо и жалобно мычала и лизала ее руку и плечо. Бедное, кроткое, безответное животное! Оно силилось спросить, где ее детище, старалось умолить отдать ей его. И мать, приходя домой с подойником, чуть не плакала, рассказывая о корове. Я не видел возможности помочь животному, и устранить его страдания и отказался от молока, чтобы не глотать вместе с ним слез и не чувствовать угрызений своей совести. Случай, значительно повлиявший на мой отказ от яиц, был такой. Раз осенью ехали мы на пароходе. Остановились у одного села. Пассажиры вышли на берег и стали закупать у пришедших баб провизию. Я ходил по берегу с буфетчиком с которым за дорогу успел подружиться. Он покупал яйца, сметану, и все искал цыплят. Вскоре прибежала из села девочка с мешком, в котором у ней сидели петушки. Буфетчик куда-то отошел и не видел, что принесла девочка. Два-три пассажира подошли, посмотрели и ушли, не купив ни одного петушка. Девочка уже хотела бежать обратно, в село, как вдруг я вспомнил о буфетчике и, думая услужить ему, остановил ее и подозвал его к ней. Тот подошел и купил всех цыплят. Во все это время я не чувствовал ничего неприятного. Услужил человеку – и только. Но когда, вернувшись на пароход, я увидел, как какой-то толстый, огромный мужчина, перекупив у буфетчика петушка, взял его за лапки и размахивая им по воздуху, шел к кухне и громко спрашивал кухарку: "а что, матушка, не изготовишь ли ты мне его?" — я понял, что сделал гадкое, нехорошее дело. Бедный петушок, с широко раскрытыми глазами, с взъерошенными перышками на голове, весь дрожал от страха, скрючив пальцы, и кричал диким, охрипшим голоском. И никто не обращал на это ни малейшего внимания. Молодое, живое существо тащили в кухонный застенок, и я чувствовал, что именно я погубил его и отдал на съедение этому жирному мужчине. Не сунься я со своей услужливостью, петушок бы, может быть, еще долго бегал, веселый и беззаботный, по родной деревенской улице. Мне стало невыразимо стыдно и мучительно, и долго еще мерещился мне загубленный мною петушок. Так отказался я и от яиц, не видя возможности помочь нашим домашним птицам, так доверчиво относящимся к людям. Перейдя исключительно на растительную пищу, я чувствую себя совершенно здоровым, крепким и бодрым. Кроме того, я значительно и выиграл кое в чем. Прежде, когда я ел мясо и рыбу, я чувствовал себя часто сонным, вялым и страдал одышкой. Перейдя же на растительную пищу, я заметил, что все эти болезненные явления покинули меня. Я могу без отдыха, не чувствуя особенной усталости, грести на веслах 20-25 верст; на какой угодно работе я не утомляюсь, и чем больше работаю, тем сильнее себя чувствую; ходить пешком могу до тех пор, пока ноги не покроются мозолями. Сплю, летом, пять-шесть часов, и никогда в течение дня не чувствую позыва ко сну, что раньше со мною часто бывало. Вообще, я должен сказать, что в здоровье, а главное в энергии, я значительно выиграл, перейдя на растительную пищу. Вегетарианство – клапан для энергии. Она словно освобождается от тяжести и пут, насевших на человеческую душу, как скоро откроешь этот благодетельный клапан. Со мной часто бывают как бы припадки энергии, когда я положительно не знаю, куда направить эту бушующую во мне силу. И я полагаю, что, переходя на растительную пищу, человеку необходимо тотчас же перейти на трудовую жизнь, чтобы хлынувший запас энергии нашел для себя готовую почву и пищу. Иначе же это постоянное напряженное состояние, эта энергия, не находящая себе применения, могут измучить человека, изнурить его организм. Теперь, когда я вспомню о том, как я раньше ел мясо, рыбу, молоко, яйца, сласти и прочее, т.е. был каким-то всеядным животным, то всегда удивляюсь, как я не потерял всей своей энергии и как мой желудок выносил такое обжорство. А, между тем, как мало нужно человеку, чтобы нормально и здорово питаться, сохраняя в целости всю свою энергию. Но, кроме моральной выгоды, я выиграл и в материальном отношении. Прежде на мое содержание выходило 10-15 руб.; теперь же, самое большее, – 5-6 руб. Не обладая достаточными средствами, я бесконечно благодарен вегетарианству, что оно сохраняет мне несколько лишних рублей, которые я и употребляю на покупку книг и на все то, на что у большинства, обыкновенно, не хватает средств. Сократив свои телесные потребности, я выиграл и в духовном, и в физическом, и в материальном отношениях. Всего этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы признать вегетарианство благородным средством для совершенствования человечества. г. Тобольск А.А.
________________________________________________________________________________________ Сохранить Вегетарианское Обозрение, Киев, 1912 г. в формате doc (zip. 370Kb)
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!