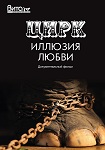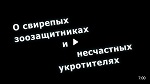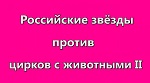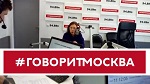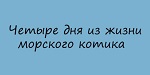|
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 
Формат jpg. 180Kb |
Вегетарианское обозрение, Киев, 1914 г.
ВО.6-7.8-9.1914 Судьба трех козочек в неволе (Из детских воспоминаний) №6-7, с. 235-242 Мне шел девятый год, когда мы всей семьей переехали на Кавказ в Майкоп и поселились в доме нашего дальнего родственника, полковника Г-ского, командовавшего там казачьей артиллерийской бригадой, которого мы с первого же знакомства стали звать «дядей Федей». Это было в июне 1867-го года. Давно это было, а помнится живо... В первый же день нашего приезда к нему, когда все начали вставать из за стола после завтрака, дядя Федя, подозвав меня и двух моих братьев, весело сказал нам: – А ну-ка дети, пойдемте со мной в сад, я приготовил для вас маленький сюрприз. Мы все высыпали за ним на садовое крыльцо и направились через площадку к беседке, стоявшей в тенистом углу сада. Беседка была сделана из трельяжа, густо заросшего плющом; к открытому входу ее была приделана, как видно, совсем новая, закрытая на глухо дверь. – Ну, детишки, угадайте, что тут у меня спрятано? – спрашивал дядя, лукаво подмигивая одним глазом. Мы, недоумевая, стоим молча, не зная, что сказать, и только шестилетний братишка Володя говорит баском: – Зверь какой-нибудь... Мы слышали от отца, что на Кавказе водятся разные дикие звери, с которыми мои братья мечтали уже воевать. – Ну, хорошо, зверь. А какой, угадай! – Медведь, – решительным голосом выпаливает Володя. – Ну-ну, посмотрим, какой медведь, – говорит дядя Федя, открывая задвижку дверцы и, оборачиваясь к нам, продолжает: – А ну, кто не боится, тот за мной! К стыду нашему, вспоминаю, как я и старший брат Ляля быстро попятились назад, трусливо прячась за спину отца, стоявшего тут же; один Володя храбро входит за дядей в темную глубь беседки. Отец, усмехаясь и подталкивая меня вперед, шепчет мне: «Не бойся, не бойся, дурочка, иди смело!» Я сконфуженно подхожу к дверце и останавливаюсь, пораженная от радостного удивления: на куче свежего сена лежат две прелестные желтые козочки, а третья стоит, как вкопанная, и испуганно большими глазами, и, как мне казалось, дрожа всем телом, смотрит на нас в упор. – Это горные козочки, целая семья, – говорит дядя Федя. – Вот этот, что вскочил на ноги, с рогами, козел-отец, видите собрался защищать свою семью от нас, а это – мать, а вот этот поменьше – еще молодой козленочек. Вот вас трое и их трое: делите, как знаете. Мы тут же решили разделить по старшинству: Ляле козла, мне козу, а Володе козленка. – А можно их погладить? – спрашиваем мы. – А вот, попробуйте! Но едва мы сделали шаг вперед, как все козочки, вскочив на ноги, заметались из стороны в сторону и стали скакать из угла в угол беседки, делая высокие прыжки, и, подогнув все четыре ноги, словно перелетали из угла в угол, ударяясь о станки так, что беседка тряслась и, казалось, вот-вот рухнет от их толчков. Мы испуганно прижимаемся к дверцам, прячась за дядю и отца. А дядя успокаивает нас: – Не бойтесь, они еще очень дикие, только что пойманы, но они быстро привыкнут к вам. И, если вы будете с ними ласковы и будете хорошо ухаживать за ними – они станут совсем ручными и будут бегать за вами, как собачки, только не гоняйтесь за ними, не пугайте их... И дядя нам объясняет, как и чем их надо кормить, а отец говорит, что надо нам сделать лопаточку и грабли, чтобы мы сами чистили их жилище. – Ну, а теперь оставим их в покое, – говорит дядя: – вот вечером, когда они лягут спать и будут сонные, к ним легче будет подойти. И мы выходим из беседки. – Не забывайте запирать дверь хорошенько каждый раз, – сказал еще дядя, закрывая плотно задвижку, – а то убегут, тогда поминай, как звали... – А разве их как-нибудь зовут? – наивно спрашивает кто-то из нас. – А как же, – смеясь отвечает дядя: – ну вот, например, одного зовут Биби, другую Мими, а третий – ну, пусть будет Бэке – что ли. Хорошо? Имена эти кажутся мне очень некрасивыми и смешными, но я нерешительно спрашиваю только, нельзя ли как-нибудь иначе назвать их? – А что, не нравится разве? Ну, тогда придумайте сами иначе, – говорит дядя, удаляясь от беседки... Но я так и не нашлась, что предложить взамен этих смешных имен, поэтому прозвища эти так и остались за ними... Не помню, долго ли, коротко ли, но козочки мало-помалу стали привыкать к нам и уже не метались во все стороны при нашем приближении, а, напротив, подходили, ласково блея, брали корм из наших рук и легко давали себя гладить и ласкать. Но долго еще мы не решались выпускать их на свободу и только на привязи выводили их на прогулку, причем они, выйдя на простор, начинали делать такие уморительные и сильные прыжки, что мы, бывало, смеясь до упаду, не могли сладить с ними одни, а должны были звать на помощь взрослых: садовника или кого-нибудь из дядиных казаков. Однако с наступлением холодной осенней погоды козочки наши стали гораздо ручнее, вероятно, потому, что им недоставало уже корму в саду, и они, в особенности молодой козленок, уже без прежнего страха подпускали к себе и брали из рук морковь или капусту. Зима в той местности наступала поздно и была неровная, снег сменялся дождем и почти до конца декабря продолжалась грязная осень. И вот однажды утром мы с радостью увидали белую снежную пелену, покрывавшую весь сад и двор. По обыкновению, мы каждое утро навещали наших козочек и носили им корм. Подойдя к беседке, мы испугались, увидев ее открытой и пустой. С криком и плачем бросились мы их искать по саду, но встретившийся нам садовник Егор успокоил нас, сказав нам весело, что выпустил их на пробу погулять на свободе: «Теперь не бойтесь, далеко не убегут, да я и ворота запер, а проголодаются, так небось, вернутся в свою беседку». На наш вопрос, где же они теперь, он указал нам на следы их маленьких копыт, видневшихся на свежем пушистом снегу. Мы бросились по этим следам, разбегавшимся в разные стороны, и так как сад был небольшой, то нам не трудно было найти их. Они стояли в частой заросли высокого бурьяна и кустов дикого барбариса, с которого спокойно общипывали жесткие кислые листочки, уцелевшие еще от мороза. – Вот, вот они! – закричали мы в восторге. Козочки метнулись было от нас в сторону; чтобы их не испугать, мы остановились и тут же стали совещаться, как их поймать. «Лучше всего заманить их морковкой», – решили мы, и помчались на кухню. Конечно, козочки очень легко поддались нашему обману; но, признаюсь, мне тут же стало жаль запирать их в эту темную беседку, когда им, вероятно, так весело было попрыгивать на воле. – «И ведь Егор сказал, что они никуда не убегут, и их так легко поймать, так пусть гуляют до вечера», – порешили мы, и отпустили их снова бегать на воле. С тех пор мы так и делали: с утра отпускали гулять их свободно, а вечером они возвращались назад в свое жилище и по-прежнему спокойно давали себя ласкать и чистить. Зимой их гладкая желтая шкурка стала отрастать и становилась все длинней и пушистей, а козел покрылся серебристой проседью, что делало его шкурку особенно красивой. Вообще, эти милые животные были удивительно красивы, грациозны и привлекательны всем своим складом и поражали нас своей ловкостью, быстрыми и разнообразными скачками. Мы могли бы целыми днями любоваться на них и бегать за ними, подражая их прыжкам, если бы нам это было позволено, но нас, так же, как и козочек, почти силком приходилось загонять в дом. Не знаю, как долго прожили бы они у нас, если бы не постигло их всех несчастье, одного за другим. Однажды, должно быть около Нового года, была бурная метель; нас в тот день не выпускали гулять, и козочки, как мы предполагали, должны были остаться взаперти. Ночью все в доме были встревожены громким лаем собак, и где-то близко был слышен вой волков. Каков же был наш ужас, когда на другой день мы узнали, что козы исчезли. Дядя послал казака искать их. Целый день мы провели в нетерпеливом ожидании, и на третий день утром, когда стихла буря, матка с козленком, к нашей радости, снова очутилась в беседке, оставленной нарочно открытой настежь на случай их возвращения. Они стояли прижавшись друг к другу и, как будто в испуге, дрожали всем телом; а козла так и не нашли нигде. Всего вероятней, что его загрызли волки – так, по крайней мере, предполагали все наши домашние. Мы, дети, накинулись с упреками на Егора, который, как мы подозревали, выпустил их в такую дурную погоду, но он оправдывался тем, что мы сами, вероятно, неплотно закрыли задвижку или что ветром сорвало дверцу с петель, а к ночи он надеялся, что они сами вернутся в свое убежище. Оказалось, что в одном углу сада ветром намело высокий сугроб снега, с которого козочки легко могли перепрыгнуть через забор в поле, где, вероятно, на них и напали волки. Сначала нам было непонятно то, что погиб козел, самый сильный из всех, тогда как обе более слабые козочки уцелели. С нашими расспросами и сетованиями о постигшем нас горе, мы, между прочим, обратились к нашему любимому дяде Ване, гостившему тогда у нас, который, по нашему мнению, должен был «все знать», так как он иногда объяснял нам явления природы и занимал нас рассказами из жизни животных. Как сейчас помню его грубоватый, вместе с тем добродушный голос, которым он говорил, утешая нас, по поводу этого горестного события. – Нечего горевать о вашем Бибишке. Разве лучше было бы, если бы он умер от поварского ножа или от ожирения в неволе? Ведь козы эти привыкли к большому простору и к постоянному усиленному движению; а у вас они, большей частью, взаперти сидели. Он же погиб геройской смертью, защищая свою семью, такой смерти и мы позавидовать можем. Знаете, как в Евангелии сказано: «нет больше той любви, как если кто душу свою отдаст за друзей своих». Да, вот, они, животные, хоть Евангелия и не читают, а исполняют лучше волю Бога, чем мы, люди... – Как же это так? Почему? – расспрашивали мы. – А потому, что закон этот вложен в сердца их: мы его называем инстинктом животных, но это все равно, как не называй, а все тот же закон, которому все должно подчиняться; только вот люди мудрят и артачатся, по-своему хотят жить и выходит ихнее житье, большей частью, хуже звериного... Прошло несколько недель, приближалась масленица. От короткой южной зимы, давно уже и следа не осталось; но пошли проливные весенние дожди, и наступила такая распутица, что, как говорится, ни проходу, ни проезду по дорогам не было. Для нас, детей, это отражалось тем, что нас мало выпускали в сад, и мы, бывало, с завистью смотрели в окна, на наших двух козочек, прыгающих по саду и пасущихся на молодой зеленой травке, уже пробивавшейся во многих местах; появились уже желтые лютики и душистые фиалки. Бедная Мимишка, первые дни тосковавшая о пропавшем Бибишке, с наступлением теплых дней, успокоилась и повеселела... В доме шли у нас разговоры о том, что дядя Федя ожидает вскоре одного своего приятеля – генерала из Петербурга, которого он хотел принять с почетом и угостить на славу. Дядя говорил, что обещал своему приятелю непременно угостить его дикой козой и во что бы то ни стало приказал раздобыть ее своему повару. Обыкновенно всю провизию доставляли из города Екатеринодара и на этот раз было заказано нарочному казаку привести оттуда тушу молодой козы, так как в нашей окрестности трудно было раздобыть эту дичь. Но вот прошла неделя, наступила масленица, а нарочный с провизией не возвращался, и все взрослые, а в особенности дядя Федя, с каждым днем все более и более волновались и беспокоились о том, что к приезду приятеля, ожидаемого на этой неделе, ничего не будет готово, а главное, не будет к столу жаркого из дикой козы. Нам, детям, со стороны казалось странным и даже смешным смотреть, как дядя, уже пожилой человек, всегда такой сдержанный и церемонный, теперь вдруг стал нервничать и раздражаться, кричать на повара и казаков, рассылая их во все стороны, то навстречу нарочному, то в окрестности в поиски за козой. И когда посланные возвращались ни с чем, он сердился, топал ногами и кричал каким-то визгливым, почти бабьим голосом: «Чтоб была у меня коза, где хочешь, хоть с того света, а изволь достать!» И войдя из передней в залу, он падал на кресло в изнеможении и, утирая пот со лба, почти всхлипывая, жалобным голосом сетовал на неудачу. Мама и тетя Варя бросались то за водой, то за успокоительными каплями для него и выпроваживали детей из комнаты, чтобы мы не шумели и не беспокоили дядю. Меня же это поведение дяди так поражало, что, признаться, приходило в голову, не спятил ли он с ума: я не могла никак понять и поверить, чтобы можно было приходить в такое огорчение только из-за того, что не будет зажаренной козы, чтоб угостить ею какого-то важного гостя. Прошла почти неделя, а нарочный все не возвращался: «Или распутица его задержала, или, чего доброго, загулял где-нибудь на праздниках» – говорили у нас. После проливных дождей наступила, наконец, прекрасная весенняя погода, и в первый же солнечный день нас выпустили из заключения. Мы, конечно, первым делом бросились к нашим козочкам: «Вероятно, они пасутся в саду» – решили мы, увидя беседку открытой и пустой, и мы кинулись искать их. Действительно, вскоре послышалось блеяние козы, и на наш зов она доверчиво вышла из чащи и побежала к нам навстречу, но тут же я заметила, что она как-то беспокойно озирается, будто ищет что-то, все время жалобно блея: «Она ищет козленка, наверное, куда же он девался?» – говорили мы. – Бекэ, Бекэ! – стали звать мы козленка, бегая во все стороны, вместе с козлихой. Она за последние месяцы стала такая ручная и кроткая, что, действительно, ходила за мной, как собачка, шла на зов и не раз приходила в комнаты, иногда даже прямо впрыгивала в открытое окно, если, бывало, поманишь ее сахаром. Козленок всегда всюду следовал за ней, и потому нас не на шутку встревожило, когда мы в это памятное утро не нашли его около его матери. Мы избегали весь сад и двор, заглядывали в конюшни, сараи, но нигде не находили нашего козлика. На дворе мы кинулись навстречу шедшему дяде Ване и, изливая ему свое горе: «Наверное, и этого волки заели» – высказали мы наше предположение. – Какие же теперь волки весною! – возразил угрюмо дядя Ваня, – они теперь и близко не подойдут. Зарезать-то зарезали, только не четвероногие, а двуногие звери... Сказав это, он вдруг круто повернулся и пошел от нас в сторону. Мы всполошились: «Как двуногие? Значит, люди? Воры, разбойники, может быть, горцы угнали его?» – не отставали мы от дяди, дергая его за полы. – Отстаньте вы от меня, почем я знаю, не мое это дело, – вдруг как-то необычно сурово и почти грубо ответил он нам и, быстро зашагав, вошел к себе во флигель, плотно захлопнув дверь. Мы стояли обиженные таким непривычным обращением с нами всегда такого доброго дяди, и с печальным удивлением спрашивали друг друга: «Что с ним? Отчего он так рассердился?» – Пойдем к дяде Феде, – решили мы, наконец, – он наверное пошлет казаков поискать козлика как тот раз. Мы подбежали к дядиному крыльцу, но вышедший нам навстречу вестовой объявил, что «дяденька заняты и никого не велели пускать». Что делать, к кому обратиться за помощью? Отец был в отъезде, оставалось идти к матери, которую мы застали с тетей Варей в хозяйственных хлопотах, в ожидании гостя. Обе они, как нам показалось, рассеянно выслушали наши жалобы и как-то нехотя отвечали нам, отговариваясь незнанием и уговаривая нас бросить наши поиски: «Лучше бы делом каким занялись», – говорили они, – вот помогайте нам чистить миндаль для пирожного»... Не помню уж, как прошел этот день, знаю только, что весь день оставались мы в печальном недоумении. Вечером, когда я уже лежала в постели и, кажется, уже заснула, меня разбудил звон колокольчиков, шум и беготня в доме. Я догадалась, что приехал ожидаемый гость. Шум голосов и звон посуды в столовой долго не давали мне спать. Я заснула поздно и поэтому проспала утром дольше обыкновенного. Но вот я просыпаюсь от какого-то шепота: прислушиваюсь – и разбираю голос няни в соседней комнате – детской: она рассказывает что-то нашей гувернантке, m-lle Мари, которая, стоя в дверях спиной ко мне, полуодетая, расчесывает свои волосы. Несколько слов из их разговора, долетевших до моего слуха, заставляют меня навострить уши... – Чуть было в грязи не потонули, камердинер его рассказывал вечор, ямщики везти отказывались, в станице бы им ночевать остаться, ан нет, не захотел: подавай ему тройку свежих, да и все, уж такого разноса задал по дороге всем – просто страсть, две тройки, поди, насмерть загнали, а из-за чего?... Все они самодуры таковы... одно слово, барская воля, чтоб ни в чем отказу не терпеть, вынь да положь – откуда хошь! Вот так и наши отцы – командиры тоже: оба одинаковы»... И тут няня начинает шептать так тихо, что сначала я ничего не могу разобрать, но вот няня с некоторым волнением снова повышает голос и до меня ясно долетают слова: «Детям-то какое огорчение! Думают, что не узнают, да разве такое дело скроешь?... Поди, скажут: повар виноват, самовольно распорядился, а что ему было делать, коль пристали к нему, как с ножом к горлу, чтоб была коза, да и только»... Не успела няня выговорить этих слов, как я, не вытерпев дольше, соскочив с кровати, с криком вбегаю в детскую: – Ага! Я теперь знаю, я все поняла: зарезали, зарезали нашего козлика! Володя, Ляля, вставайте, – и я тормошу еще спящих братьев. – Слышите, слышите? Да, ну же проснитесь, проснитесь же, сонные тетери! Слушайте, что я вам скажу! Володя, козленка твоего зажарили, сегодня есть будут! Сонные, не соображая в чем дело, братья подымаются с подушек, протирая глаза. Но вдруг Володя, соскочив с постели и не говоря ни слова, быстро одев сапоги, как был в одной ночной рубашонке, выбегает вон из комнаты, кинув мне только на ходу краткое: «Пойдем скорей!» М-llе Мари, протестуя, пытается остановить меня, но я, всегда послушная, на этот раз упрямлюсь и так же молча, как Володя, кое-как одевшись, вырываюсь из рук гувернантки и кидаюсь бежать за ушедшим уже братом. Не сомневаясь, что он побежал на кухню к повару, я перебегаю через двор и подойдя к кухонному флигелю, слышу громкие голоса и, войдя туда, застаю на кухне бурную сцену: Володя кричит, плачет, топает ногами, угрожает своими кулаченками повару, который, ни мало не смущаясь, стоя посреди кухни, подхватив свой толстый живот, хохочет во все горло, раскачиваясь взад и вперед, а за ним покатываются со смеху и другие, бывшие тут, его помощники казаки. Толстое красное лицо повара с прищуренными глазами, с раскрытым ртом и оскаленными от смеха зубами, кажется мне таким противным, отвратительно-хищным, что несмотря на его, как будто добродушный смех, мне становится страшно, и я, схватив Володю за рукав, тяну его прочь из кухни. Но он не слушается меня и в неистовом припадке гнева, с сжатыми кулачками бросается на повара и начинает бить его по животу. По-видимому это надоело повару, – он вдруг перестает смеяться и, схватив нож со стола и состроив страшную гримасу с вытаращенными глазами и рыча по звериному, делает вид, что бросается на Володю: – У-у! Пошел вон отсюда! Вот зарежу тебя, как козленка, глазом не мигну! – И схватив Володю в охапку, он выкидывает его за дверь, захлопнув ее у нас перед носом, чему я, признаюсь, очень рада. Володя не сразу успокаивается и продолжает осаждать дверь, колотя в нее кулаками и сапогами, в то время, как за дверью раздается громкая ругань и ворчанье Андрея повара: «ишь, щенок еще, а вздумал тоже командовать. Я те покомандую! Тут, братец, я один царь-командир, никому не позволю, не то что мелюзге какой», – и прочее в этом роде. Наконец, Володя, почувствовав свое бессилие, идет прочь от кухни, повесив голову и тяжело сопя носом. Я иду рядом с ним и всем сердцем сочувствуя его горю, пытаюсь его утешить как-нибудь; но мне это не удается: я пробую приласкать его, хочу его обнять за шею, но он почти грубо отпихивает меня, со словами: «Ну тебя с твоими нежностями!» На крыльце, очевидно нас поджидая, няня с ворчанием подходит к нам и, схватив за руку Володю, тащит его в дом. – Задаст тебе твоя мамзель! – кричит она мне; но я, не останавливаюсь, и быстро прошмыгнув мимо бегу прямо к беседке. Не успела я открыть дверцу, как оттуда опрометью выскочила моя коза, чуть не сбив меня с ног, и, беспокойно блея, поскакала в глубину сада; я кинулась за ней, но она долго не шла на мой зов и не соблазнилась даже сахаром. После этого целый день она металась беспокойно по саду, совсем не паслась на траве и решительно не брала корму из рук; мне казалось, что она, как будто опять одичала за эту ночь и боялась подходить даже ко мне, что причиняло мне большое огорчение. Я была так озабочена этим, и так рассеянно относилась ко всему окружающему, что на меня в этот день, должно быть, не произвел ни малейшего впечатления строгий выговор, доставшийся мне от гувернантки, так как в памяти моей не осталось ничего о последствиях этого моего непослушания, хотя и уверена, что мне оно не могло пройти даром. Помню только, как m-lle Мари что-то ворча, переодевала меня в праздничное платье. Я машинально повиновалась, но выйдя к обеду в столовую и забыв даже поздороваться со старшими, со слезами кинулась к дяде Феде, жалуясь ему на наше горе. Дядя Федя, всегда такой любезный и ласковый, тут как будто смущенно и холодно поздоровался со мной и с неприятной, натянутой кривой усмешкой сказал мне по-французски: – Мадмуазель Галя, будьте вежливы, извольте сделать реверанс его превосходительству! И он повернул меня за плечи лицом к сидевшему около матери генералу. – Уж вы извините, она у нас совсем дикарка, – продолжал дядя, обращаясь к гостю, когда я, рассеянно поклонившись, быстро повернулась, чтобы уйти, прочь, с чувством разочарования и почти обиды на дядю, за его равнодушие. Но мать окликнула меня и, поцеловав, шепнула мне на ухо: «не будь же букой, не смотри исподлобья, ты совсем дурочкой держишь себя». С трудом сдерживая слезы, я отошла от нее и когда, после закуски, все стали рассаживаться за стол, я не села на свое обычное место около дяди, а поскорей заняла место в конце стола, где сидела тетя Варя и меньшие дети, усадив рядом с собой брата Володю. Сначала подавались бесконечные блины с разными приправами, которых одних было довольно, чтобы быть сытыми по горло; потом пошли другие блюда, и обед, мне казалось, тянулся так долго, что я уже перестала волноваться в ожидании появления жаркого из козленка; начинала уже думать, что быть может, его и не подадут и что может статься, опасения наши были напрасны, так как в сущности никто из взрослых не признался нам в том, что козленок будет зажарен к обеду. Заранее мы условились с Володей, что не будем есть нашего козлика. Кажется, и брат Ляля примкнул к нашему союзу; но когда стали обносить жаркое, которое так мало походило на нашего козлика, то сначала я не обратила на него внимания; и только когда наш старый лакей Игнат, обносивший по очереди гостей, сидевших напротив меня, многозначительно подмигнул мне глазом, кивком головы указывая на жаркое, – я поняла в чем дело. И тут я с негодованием заметила, что Ляля, сидевший напротив, должно быть в забывчивости, стал резать ломтик мяса, положенного ему на тарелку, и преспокойно клал кусок за куском в рот, ни разу не взглянув в нашу сторону. Разговаривать за столом нам строго воспрещалось, в особенности при гостях, и я не знала, как дать ему понять, что он нарушает свое обещание. Занятая тем, чтобы привлечь его внимание в мою сторону, я в свою очередь не заметила, что сидевшему рядом со мной Володе тетя Варя уже положила на тарелку кусок жаркого, и только, когда она окликнула меня, сказав: «дай свою тарелку», – я резко отказалась и тут, к ужасу моему, увидела, что Володя, положив кусок мяса в рот, жует его. Толкнув его в бок, я шепнула ему: «Что ты делаешь? Ведь это твой козленок!» Володя густо покраснел и тут же выплюнув изо рта кусок, резко отодвинул тарелку в сторону. – Это что за манера? – сказала тетя Варя сердито: вот был бы папа дома, выгнал бы тебя из-за стола! Ешь сейчас, а то пирожного не получишь. – И не нужно мне никакого пирожного, – буркнул Володя в ответ и, опустив голову и надув губы, просидел до конца обеда, не подымая головы... Он даже не обратил внимания на вкусное пирожное, положенное ему на тарелку сжалившейся над ним тетей Варей. Чтобы его ободрить и утешить, я шепнула ему на ухо: «Ты молодец!» При этом я с презрением и укоризной взглядывала на Лялю, который, я была уверена, умышленно избегал смотреть в нашу сторону, не желая встретиться со мной глазами. А на другом конце стола между тем шел разговор, на некоторое время привлекший мое внимание. – Подать еще жаркое! – громко сказал дядя лакею. – Удивительно! Какая прелесть! – говорил, смакуя еду, генерал. – Я никогда не думал, чтобы мясо козы могло быть так нежно и так вкусно... Просто – деликатес. Хотелось бы знать, каким путем этого достигает ваш повар? Ведь обыкновенно говорят, что козлятина имеет неприятный запах, а здесь этого совсем нет... – Его раньше вымачивают в уксусе, – расслышала я голос матери. – Обязательно в уксусе, – подтвердил дядя, – но вообще требует искусства. – О, да, ваш повар мастер своего дела! Превосходный, как я вижу, повар, просто завидно даже... – расхваливал генерал. Признаюсь, слушая эти разговоры старших, я все время внутренне осуждала их, то негодуя, то насмехаясь над ними: «Фу, противные обжоры!» говорила я шепотом, наклоняясь к уху Володи: «точно людоеды!» И мне действительно, в ту минуту казалось, что едят не козленка, а кого-то близкого, родного, как бы нашего младшего братца, и сердце мое было полно ужаса и отвращения... №8-9, с. 291-296 На следующий день новое огорчение ожидало меня. Когда я утром пришла в беседку, моя коза лежала на соломе и, против обыкновения, не вскочила и не подошла ко мне навстречу, а только, подняв голову, уронила ее на солому, странно фыркнув, будто тяжело вздохнув. «Что это с ней? Она больна, наверное!» и я с ужасом вижу, что под нею на соломе были кровяные пятна. – Егор, Егор! зову я на помощь садовника. Подошедший Егор с сожалением в голосе стал рассказывать мне, что коза накануне пыталась перепрыгнуть через высокий забор и сильно расшиблась и поцарапалась о колючий терновник. Тут я вспомнила, что действительно, не будучи в состоянии поймать ее вчера, предоставила Егору загнать ее на ночь, когда нас позвали в дом. Горько плача, я побежала к матери, умоляя, чтобы она послала за ветеринаром. Мать исполнила мою просьбу, и больную козу навестил полковой доктор, наш хороший знакомый. Кажется, ветеринар был тогда в отпуску. Но мне показалось, что старый доктор отнесся безучастно к моей милой козочке, быть может, оттого, что нашел ее положение безнадежным, что, однако, скрыли от меня в то время. Помню, как я с братьями старалась поднять больную козу и поставить ее на ноги, но она тут же, сразу подогнув колени, грузно опускалась на солому, издавая какой-то тяжелый, почти человеческий стон. «Если бы у нее были переломаны ноги, то доктор, наверно, заметил бы это и наложил бы ей бинты», говорили мы между собой, не находя никаких следов перелома. Но еще больше беспокоило меня то, что она совершенно отказывалась есть, стискивая челюсти, когда я старалась пропихнуть ей в рот клочок травы. Она только с жадностью пила воду, но со дня на день так слабела, что сама не могла приподнимать головы, чтобы напиться, и я, обхватив ее длинную шею руками, с усилием приподнимала ей голову, подставляя ей лоханку с водой. Она стала удивительно кротка и нежна со мной: бывало, я клала ее милую мордочку себе на колени и она лизала мне руки, по временам тяжело вздыхая, и смотрела на меня своими прекрасными, черными, агатовыми глазами, из которых катились крупные слезы, и взгляд ее выражал столько муки, тоски, что я не могла удержаться от слез и, рыдая, осыпала ее поцелуями и ласками. Потянулись длинные тоскливые дни, которые я почти безвыходно проводила около моей больной любимицы, медленно умиравшей на моих глазах. За эти дни, мне казалось, я полюбила ее еще сильнее и горячее, чем прежде; и, право, если бы тогда меня спросили, кого я люблю больше всего на свете, я, пожалуй, не задумываясь, сказала бы, что моя «Милочка» мне всего дороже. В моем воспоминании это печальное время слилось как бы в один длинный, тягучий пасмурный день, в продолжение которого все остальные интересы моей детской жизни отошли в сторону: все мое внимание было поглощено заботами о моей дорогой больной, около которой я проводила весь день. Мать моя не на шутку беспокоилась за мое здоровье, видя, как я плохо стала есть, мало спала, вставая с рассветом. Отец все еще не возвращался из командировки, но его ожидали со дня на день, и мать, не раз говаривала, что папа будет недоволен и огорчен, найдя меня похудевшей и побледневшей против прежнего. В один из этих грустных для меня дней, сидя, по обыкновению, в беседке, около моей любимицы, я еще издалека расслышала голос отца и узнала его быстрые шаги, направляющиеся к беседке. Дверь распахнулась, и на пороге появился отец в пальто и даже еще не скинув с плеч дорожной сумки: – Галенька! Здравствуй! Что ты тут делаешь? Ну, встань же поздороваться с отцом, – сказал он строгим голосом, пристально вглядываясь в меня. Я вскочила и вдруг, разрыдавшись, кинулась к нему на шею. – Папочка, милый папочка! Она умирает, умирает. – Ну, полно, дурочка. Что с тобой? Откуда ты взяла, что она умирает? говорил отец уже с ласковой тревогой в голосе, гладя меня по голове. – Да, да, я знаю, она больна и ничего не ест с тех пор, как зарезали козленка, и вот, Егор даже говорит, что она с тоски помирает! И я, всхлипывая, прижималась к отцу. – Что за вздор! Кто зарезал? Когда? – Говорю тебе правду: зарезали и съели за обедом! Вот, если бы ты, папочка, был дома, ты бы не позволил, наверное... – Не понимаю, не понимаю... – тревожно насупившись, говорил отец, – пойдем, пойдем отсюда, пойдем к матери... Она беспокоится... Однако, войдя в дом, он велел подождать мне в зале, а сам вошел в соседнюю комнату к матери, притворив за собой дверь. Сначала мне слышались сдержанные голоса отца и матери, но потом голос отца стал повышаться и раздраженно выкрикивать отдельные слова, из которых я могла понять, что он упрекает мать за то, что она, уступая капризу дяди Феди, допустила такой «безобразный» поступок по отношению к своим детям. В конце концов, как всегда бывало между ними, отец пересолил в своих резких выражениях и довел мать до слез. Тогда уж я не выдержала и, влетев к ним в комнату, кинулась утешать и целовать мать и, желая защитить ее от нападок отца, говорила ему: «Что ты нападаешь на маму, она не виновата, это не она велела повару!» – И я, плача навзрыд, кидалась от отца к матери и обратно. – А ну вас, бабье, с вашими истериками! Слова нельзя сказать, – выкрикнул отец раздраженно и, хлопнув дверью, вышел вон. Мы переглянулись с матерью, догадавшись по направлению его шагов, что он пошел на дядину половину. «Ну, теперь будет перепалка и, чего доброго, они поссорятся», – подумала я про себя. Хотя я и была сердита на дядю, считая его главным виновником всего этого несчастья, но мне неприятна была мысль, что, как будто из-за меня, поссорятся двое близких мне людей. Между ними уже не раз бывали неприятные столкновения и нелады, и я знала, какое тяжелое настроение наступало в таких случаях в нашей семье и как всем нам становилось плохо жить. Оба они тогда целыми днями были пасмурны, мрачны, и несправедливо строги и придирчивы к нам, детям, равно как и ко всем окружающим в доме. Мы должны были ходить на цыпочках, говорить шепотом и старались не попадаться на глаза ни тому, ни другому. И наоборот, когда папа с дядей мирились и устанавливались снова добрые отношения, в доме опять становилось весело, оживленно и празднично, и на нас, детей, с обеих сторон сыпались баловства и ласки. Так и случилось, как я того опасалась. Дядя в этот вечер не показывался из своей половины, и я слышала, как сам отец насмешливым тоном рассказывал матери, как он «пробирал Феденьку». – Ну, и распушил же я его! – говорил отец не без удовольствия: представь, расплакался, как баба. Игната за каплями посылал к Вареньке. Понимаешь ты: форменную истерику закатил мне! С Игнатом водой отливали, а он: ги-ги-ги-го-го-го! Так и закатывается, ни дать, ни взять, как ты, матушка! Эдакое бабье! Эдакая размазня! А еще военный, тьфу, черт его побери! И смех, и грех с ним!.. К счастью, ссоры их никогда не были продолжительны, они скоро мирились, причем, однако, дядя еще несколько дней бывал холоден со всеми, говорил томным голосом, чувствительно закатывал глаза и вздыхал, как после тяжелой усталости. Так было и на этот раз. Несколько дней спустя, когда уже все в доме, не скрывая от меня, говорили с сожалением о том, что коза умирает, дядя, подозвав меня, шепнул мне: «я велю достать и подарю тебе такую же козочку, еще лучше». Я замотала головой отрицательно: «не надо мне другой, это будет уж не та!» И, едва сдерживая слезы, я выбежала из столовой... В этот день моя козочка была уж так плоха, что отказывалась даже пить, и я пыталась поить ее с пальца, как теленка, обмакивая руку то в воду, то в молоко и, с усилием разжимая ей зубы, протискивала пальцы ей в рот. Вот что запечатлелось в памяти у меня от этого последнего утра ее жизни. Предвидя, что она вряд ли переживет эту ночь, едва забрезжил рассвет, я была уже в беседке и, несмотря на то, что мне жутко было видеть в предсмертной агонии мою любимицу, я не могла оторвать от нее глаз, не могла решиться покинуть ее. Чувствуя свое полное бессилие помочь ей чем-нибудь и понимая, что приближается ее последний час, я сидела около нее тихо, с безнадежной тоской в сердце, глядя только, как то опускались, то поднимались ее тяжелые веки, как вздрагивали ее ноздри, и с жутким чувством прислушивалась к ее тяжелому, хриплому дыханию, от которого мне становилось особенно страшно. Вероятно, чтобы разогнать хоть немного свой страх, я начала тут же плести венок, разобрав для этого большой букет фиалок и маргариток, стоявших в кувшине у ее изголовья, которые я ей приносила каждый день. В беседке стоял полумрак, и я оставила дверь открытой, чтобы бедная умирающая в последний раз могла взглянуть на лучи утреннего солнца, которое вот-вот должно было взойти. Углубившись в свою работу, я вдруг заметила, что в беседке стало еще темней и, подняв голову, увидала крупную фигуру, заслонившую почти все отверстие двери. Это был повар Андрей, который последнее время был мне так ненавистен и даже страшен. Он был одет на этот раз не в поварское, белое, а в праздничное, черное штатское платье. Не знаю, отчего, но испугалась и почти закричала на него: – Уйди, уйди, противный! Что тебе здесь надо? – Вероятно, мне вообразилось, что он и мою козу хочет взять, чтобы зарезать на жаркое. Он, иронически приподняв шляпу, проговорил любезно: «Чего изволите беспокоиться, барышня? Напрасно испугались: помилуйте, просто зашел, мимо идучи, к заутрене собрался; вышел, значит, на улицу, иду мимо палисадника, глядь в сторону, вижу, беседка открыта нараспашку, думаю: что больно рано, уж не случилось ли чего? Ну, и повернул назад, в калитку, значит, через палисадник... А вам, должно быть, и не слыхать было, как подходил, – вот вы и испужались... Вероятно, он заметил мой враждебный взгляд, потому что, помолчав немного, уже с обидой, не то с насмешкой в голосе продолжал: – Вы, чай, думаете, я за вашей козой пришел, – как давеча?... Я упорно молчала, не подымая головы, и, будто не слушая его, продолжала подбирать цветы. – Ну, сами посудите, на что мне падаль-то ваша? – язвительно проговорил он и сплюнув в сторону и презрительно фыркнув своими толстыми губами, он повернулся, чтобы уходить. Признаться, я обрадовалась этому движению и с нетерпением ожидала, когда он скроется с моих глаз. Вид его раздражал меня, и, несмотря на его любезный тон, слова его не возбуждали во мне доверия. Однако он, зайдя за дверь, приостановился и заговорил опять, но уже совсем другим тоном: – Говею я... на исповедь иду... так вот уж сделайте милость, простите меня, ради Христа, в чем я пред вами согрешил... Я растерялась и, не зная, что сказать, несвязно пробормотала: «ну, ну, хорошо, да что же: это не мой козленок был, пойди к Володе...» – Ну, что к Володе, несмысленный он еще, да и поди, чай, спит еще... Мне не видно было его лица, он стоял за притолокой двери, прислонившись боком к беседке, но голос его звучал глухо и, как показалось мне, сконфуженно. – Вы, чай, думаете, мне все это наплевать? Да я, вот, как перед Господом Богом говорю, который день места себе не нахожу... Уж собирался, было, горькую запить... все хожу и думаю: чай, проклинают меня ангельские души! Ведь который день ни разочку не заглянули ко мне на кухню, а я уж вам и теста сколько раз готовил, думал, вот придете, как бывало, ватрушечки лепить, ан, нет и нет никого из вас. Скука взяла; знать, серчают, думаю себе, до сих пор... Мне бы с вечера придти попроститься перед исповедью, да как-то дело не вышло: то губернантка при вас, то спать ушли, ан, вот, утречком сам Бог привел... И он вдруг круто обернулся и, войдя в беседку, сразу почти упав на колени, сделал земной поклон и, уже прямо всхлипывая, хриплым голосом проговорил: – Ради Господа Бога простите, еже согреших перед вами... Я почти закричала, замахав руками: «Что ты, что ты, встань! Сейчас встань!...» И, когда он так же быстро поднялся на ноги, я торопливо проговорила: «Ну, ну, хорошо, прощаю, только иди!» – Хорошо-то, хорошо, – тяжело вздохнув и переминаясь с ноги на ногу, пробормотал он и грустно добавил: да не от сердца вы это говорите... Мне вдруг стало стыдно и что-то подступило к горлу, и я, запинаясь, торопливо проговорила: «Ну да, да, конечно.... и я тоже нехорошая... ведь я так, так злилась на тебя!» И вдруг залилась слезами. Не знаю уж, что говорил мне повар в ответ на это признанье, но сквозь слезы мне слышался ласковый тон его голоса, и я поняла, что он утешал меня. Расслышала я только последние слова: – Ну, Христос с вами, ангел мой, не буду больше беспокоить вас, покорнейше благодарю! – и быстрыми шагами он удалился. – Ах, зачем, зачем он мне раньше этого не сказал! – думала я, рыдая, припав к груди моей козочки. Вероятно, непривычное чувство враждебности было очень мучительно моему детскому сердцу, потому что после этого на душе у меня точно прояснилось, стало вдруг так легко, будто камень свалился с души. Наплакавшись, я, должно быть, внезапно задремала, сладко, беззаботно... Не знаю, сколько времени я проспала... Вдруг какой-то толчок будит меня: это козочка моя, как то странно вздрагивая, дергает ногами, то подымая, то опуская свою гибкую шею. Солнечные лучи уже ярко пробиваются сквозь чащу плюща и играют светлыми пятнами на блестящей шерсти козочки, так же, как на моем платье и по всему полу беседки, и мне думается, что они согревают и оживляют тело умирающего животного; мелькает даже надежда: «а может быть она и вправду оживет!» Но это продолжается недолго. Вытянув шею и расширяя ноздри от тяжелого дыханья, козочка, приподняв голову, вперяет в меня свой взгляд, и я тоже, как заколдованная, не могу оторвать своего взгляда от этих прекрасных агатовых глаз, полных выражения немой мольбы и тоски, будто она хочет сказать мне что-то на прощанье... И вот из ее глаз льются крупные слезы, и она, уронив голову ко мне на колени, глубоко втягивает в себя воздух: все реже и реже становятся эти вздохи, и, наконец, она затихает... Я сижу все так же неподвижно, все так же всматриваясь в ее мало-помалу тускнеющие глаза и по временам щупая ее холодеющий нос. Думала ли я, чувствовала ли я в то время что-нибудь – решительно не помню, знаю только, что во мне отсутствовало прежнее чувство страха вблизи этой смерти. Я очнулась от своего оцепенения, когда кто-то из братьев, вбежав в беседку, стал громко звать кого-то, крича: – Она тут! Она тут! Братья с любопытством расспрашивают меня и тормошат козочку. Горячо поцеловав на прощанье мордочку моей любимицы, я подымаюсь на ноги и тут только чувствую, что почти окоченела, сидя неподвижно несколько часов на холодной земле. С трудом расправив отекшие члены, я иду домой. Мама встречает меня с тревогой, щупает мне голову и пульс, домашние обступают меня, о чем-то расспрашивая, но я неохотно отвечаю; у меня начинается озноб и тянет ко сну... Помню, что, когда я легла в постель, няня, растиравшая мне холодные ноги водкой, сказала, между прочим: «И как тебе не боязно было одной с покойницей-то? Чай, страшно было глядеть, как умирала?» Я отвечала: «Ничуть не страшно, а даже очень хорошо!» И, вероятно, после этого скоро забылась, так как ничего не помню, что было дальше со мной. Потом мать мне рассказывала, что я таки схватила лихорадку и пролежала несколько дней в жару... Когда я в первый раз вышла на воздух, я только тогда вспомнила про смерть козочки и поинтересовалась узнать, где ее похоронили, очень сожалея, что «проспала» ее похороны. Но приятель наш, казак Николай отчасти утешил меня, сказав, что исполнил данное мне уже заранее обещание, отвез ее труп на берег речки Белой и похоронил в лесной чаще в том самом месте, где год тому назад поймал козочек в плен. На этом и я успокоилась, нисколько не сомневаясь в правдивости его слов. Но было ли это так на самом деле, или он обманул меня, я утверждать не могу. В сущности, не все ли равно, как поступают с трупом бездыханного существа, не только животного, но даже человека?... Но в то время я думала иначе; мне было бы очень обидно, если бы труп моей любимицы был брошен на съедение собакам, и потому меня очень тронул поступок Николая, исполнившего этим мое желание. (Когда я была уже взрослая, мне случайно пришлось узнать от нашей тети Вари, что болезнь моей козочки произошла от неблагополучных родов, случившихся действительно вследствие ее неудачных прыжков через высокий колючий забор, когда она, потеряв своего козленка, вероятно, пыталась вырваться на волю. Причина ее болезни в то время от нас, детей, была, разумеется, скрыта взрослыми). Много лет прошло с тех пор, но, как это ни странно, каждый раз, когда я вспоминаю про это милое существо, во мне воскресает опять то же детское, горячее чувство нежной, почти восторженной любви к этому прекрасному, кроткому созданию. Правда, что тут же, после ее смерти, я дала себе слово никогда не держать в неволе свободных диких животных; и не раз, еще долго после этого, становясь вечером на молитву, я просила у Бога прощения со слезами за свою вину в преждевременной смерти этих трех козочек, отданных нам, детям, на забаву по прихоти взрослых людей, не признающих за животными прав на свободу и неприкосновенность. Но все же я на всю жизнь сохранила в своем сердце благодарность судьбе, давшей мне случай узнать и полюбить это доброе четвероногое животное, не только не меньше, но, пожалуй, даже больше, теплее, чем многих двуногих существ. Совершенно искренно признаюсь, что как в то время, в детстве, так и сейчас, живо вспоминая все пережитое тогда, – я иначе не могу назвать свое чувство по отношению к моей козочке, как родственное, братское, и рада, что сохранила это детское чувство в памяти и в сердце своем до самой старости. Анна Черткова
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!