 |
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 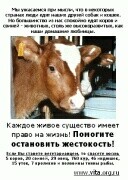
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 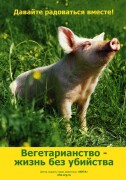
Формат jpg. 180Kb |
Вегетарианское обозрение, Киев, 1914 г.
ВО.1.2.3.4.1915 О Л.Н.Толстом Начало см. в №8-9 «Вегетарианского Обозрения» за 1914 год №1, с. 10-18 Когда говорят о Толстом, то все почти согласны в одном – в том, что он велик. Но далеко не все, однако, отдают себе ясный отчет, на чем именно основано это величие и в чем оно. Для одних – и таких очень, очень много, едва ли не большинство – Толстой велик просто потому, что его сделали великим, велик, так сказать, по внушению; для других Толстой велик исключительно как художник (великий художник, но плохой мыслитель); третьи готовы, пожалуй, признать Толстого и мыслителем; четвертые преклоняются перед Толстым, главным образом, как пред бесстрашным обличителем злых и уродливых явлений нашей жизни, как пред горячим проповедником-гуманистом, и только немногие принимают, так сказать, всего Толстого; только немногие видят источник величия Толстого в том, в чем он действительно был; только для немногих Толстой велик прежде всего сам в себе, без отношения к тому, что он сделал и оставил нам, – велик тем, что было в нем, велик своей великой душой. И чем больше изучаешь эту личность, чем больше постигаешь ее, тем больше постигаешь ее величие. К сожалению, мало кто серьезно изучает личность и жизнепонимание Толстого. Говорю: к сожалению, потому что изучение личности и жизнепонимания Толстого может быть важно для нас во многих отношениях. Жизнь Толстого – это, поистине, великая и чудная поэма, поэма человеческой души, рвущейся к свету, поэма борьбы с ложью и мраком и беспрестанного стремления к правде, – не минутной правде и не мертвой правде о внешних предметах, удовлетворяющей лишь наше любопытство и не имеющей отношения к нашей жизни и нашим человеческим задачам, ничего от нас не требующей и ничему нас не обязывающей, но правде вечной, живой, правде Божьей, зовущей нас к лучшей и осмысленной жизни, предъявляющей нам глубокие и серьезные требования и движущей нас вперед. Изучение Толстого может иметь большое значение для нашего самосознания: оно может помочь нам глубже и правильнее понять себя и свои противоречия. Великие люди ведь тем именно велики и важны для человечества, что они являются его истинными выразителями – они являются выразителями не одной определенной группы людей, не одного сословия, класса, нации, а всего человечества, всего лучшего, что есть в нем. Поэтому-то великие люди принадлежат не своему отечеству, а Богу и всему миpy. Разумеется, и великие люди рождаются и живут в определенных условиях времени и места, которые могут наложить на них известный отпечаток; но великие люди тем именно и велики, что они не являются рабами этих условий; они поднимаются, так сказать, над ними и сознательно устанавливают свое отношение к ним. Они являются творцами своей жизни. Являясь выразителями сокровеннейшего и глубочайшего своей души, они тем именно являются выразителями человеческой души вообще, сущности ее. В себе нам обыкновенно трудно бывает уловить ее – эту сущность: в нас она обыкновенно подавлена и завалена разным хламом. Тысяча покровов скрывают нас, наше «я», не только от других, но сплошь и рядом и от самих себя. Мы слышим в своей душе не один голос, а много голосов, сплошь и рядом противоречащих и отрицающих друг друга, и мы путаемся, мы теряемся в хаосе своих противоречий, мы часто не знаем, какой из голосов принять за свой настоящей, – или они все настоящие, или все не настоящие. Мы иногда всю жизнь проживем, так и не найдя, так и не узнав себя... И вот в этом отношении, в отношении уяснения нашего «я», и важно особенно изучение великих людей, великих, т. е., душ, сбросивших с себя свои покровы и нашедших себя. В этом именно отношении и важно изучение личности и жизни Толстого. В Толстом мы находим все то же, что есть и в нас, что есть вообще в человеческой душе; но то, что в нас редко сохраняется, что сплошь и рядом затемняется и теряется, то сохранилось в Толстом и ярко выразилось. Толстой – это мы, но не те мы, какими мы бываем в повседневной жизни и деятельности (то большей частью не мы, то в нас продолжают жить наши деды и прапрадеды), а те мы, которыми мы являемся тогда, когда остаемся наедине с собою, со своею душою, когда пошлость и суета жизни теряют свою власть над нами, когда мы освобождаемся, углубляемся и прислушиваемся к тем таинственным, но ясным и простым голосам, которые раздаются где-то там, в самой глуби души. Но у нас, большей частью подобные состояния, подобные просветления бывают лишь минутами, наша жизнь мало и бледно отражает эти состояния, нас увлекает стихия жизни, мы не в силах или не пытаемся противостоять ей – и мы сплошь и рядом превращаемся в слепые, бессознательные орудия этой стихии, – Толстой же видел в этих переживаниях не «настроения», а все – сущность жизни. Толстой жил ими, и он сохранил себя... и создал из себя что-то чудное и истинно прекрасное. Но и Толстому это творчество жизни, эта свобода далась нелегко. Он пришел к ней целым рядом мучительных сомнений, колебаний и падений – и это обстоятельство не только не умаляет его значения, но делает его еще более трогательным, дорогим и особенно близким нам. Обыкновенно великие мыслители, основатели религий, великие мудрецы и реформаторы жизни представляются нам людьми какими-то особенными, вовсе не похожими на нас, чуждыми нашим человеческим слабостям и страстям, с особенными какими-то мыслями, чувствами, – людьми, пред которыми мы преклоняемся, но которые все же остаются как-то чуждыми нам, людьми не от мира сего. Но это, по всей вероятности, оттого, что мы видим одну лишь сторону их жизни, что для нас скрыть тот душевный процесс, который они переживали. Для нас большей частью остаются лишь результаты, итог, так сказать, их жизни. И только по отдельным преданиям, по отдельным намекам мы можем догадываться о той великой работе, которая должна была совершиться в них, о той великой борьбе, которую они должны были вести с собою, со своими слабостями и искушениями. Не то с Толстым. Пред нами не одна сторона, а вся его жизнь – и не в легендарных преданиях, а в собственных признаниях его, во всех его писаниях: его письмах, дневниках, в его знаменитой Исповеди, во всех его художественных произведениях. Мы можем проследить путь, пройденный Толстым, мы можем проследить всю ту, поистине гигантскую, работу, которую он совершил. Вся душа его пред нами, разумеется, настолько, насколько вообще душа может быть открыта и выражена в слове (ибо самое сокровенное – сущность души остается, в конце концов, всегда невыраженной и невыразимой). Мы видим его сомнения, его слабости, с которыми он ведет упорную и беспрерывную почти борьбу, видим поражения, но видим и победу. И победа эта окончательная. И победа эта не его лишь личная победа. Она имеет громадное значение для всех нас. Эта победа, поистине, победа человеческая, победа света и жизни. Победа эта ободряет нас. – Не бойтесь, – точно говорит нам Толстой всей своей жизнью, – не бойтесь своих пороков и слабостей, не бойтесь сомнений, не отчаивайтесь, в каком бы положении вы ни находились, – в вас сила, великая человеческая сила, в вас власть. Дерзайте же, стремитесь, боритесь, и побеждайте. И не уставайте. Пал – подымись и вновь и вновь борись, и вновь и вновь стремись... Я знаю ваши слабости, знаю ваши противоречия и искушения – я сам их пережил. Но я не признал их власти; я не хотел и не мог мириться с ними; я вел с ними отчаянную борьбу – и в борьбе этой нашел жизнь. В каждой победе черпал я свежие силы для новой борьбы, для дальнейшего движения ввысь... Дерзайте же, дерзайте и вы. И в этом – в том, что Толстой раскрыл нам весь ход своей жизни, свою душу, свои искушения, соблазны, падения, борьбу, усилия и победу – раскрыл с такой искренностью, с таким бесстрашием и такой необыкновенной глубиной и яркостью – едва ли не одно из главнейших для нас значений изучения Толстого. И сам Толстой это ясно сознавал и выразил. «Я уверен, – пишет он другу своему и биографу П. И. Бирюкову по поводу автобиографической своей статьи, которую он собирался написать, – что эта статья принесет больше пользы, чем первые 12 томов моих сочинений». Изучение личности и жизни Толстого важно также для более глубокого и полного понимания его миропонимания, ибо миропонимание Толстого не есть что-то вылившееся раз навсегда. Оно складывается и созидается постепенно всей его жизнью. Жизнепонимание Толстого не есть нечто головное, надуманное, а есть вывод всей его жизни, всего его жизненного опыта. Это изучение Толстого должно также положить конец поверхностному делению Толстого на художника и мыслителя, которое у многих вошло уже почти в обычай. Что собственно означает это деление? Оно, очевидно, имеет в виду не указать лишь просто те элементы, из которых сложилось творчество Толстого; этим делением не хотят также просто указать, что в одних произведениях Толстого (и в один период его жизни) преобладаешь один элемент, а в других произведениях (и в другой период) – другой. Приведенным делением имеется в виду другое: имеется в виду указать на двойственность и какое-то коренное противоречие в творчестве и в самой личности Толстого. Между Толстым-художником и Толстым-мыслителем, говорят, мало или даже и вовсе ничего нет общего; больше того, находят даже, что Толстой-художник отрицает Толстого-мыслителя, а Толстой-мыслитель отрицает Толстого-художника. А это-то положение неверно и прямо-таки нелепо и есть, с одной стороны, следствие слабого знакомства с личностью и творчеством Толстого, а с другой – склонность некоторых умов к легким, хлестким и поверхностным обобщениям. Толстой как раз поражает противоположным, поражает именно своей редкой по нашему времени цельностыо и единством. Толстой-художник и Толстой-мыслитель всегда слиты и всегда проникнуты Толстым-человеком, живым, цельным – и это станет ясным для каждого, кто даст себе труд серьезно и все сторонне изучить Толстого. Я не хочу этим, разумеется, вовсе сказать, что все писания Толстого, начиная «Детством» и кончая писаниями его последних лет, проникнуты одним и тем же настроением и одним и тем же взглядом на жизнь, одним и тем же, главное, отношением к ней. Нет. Но писания Толстого всегда отражают то, чем в данное время жил Толстой, чему он поклонялся, во что верил и в чем сомневался (хотя основное, самое глубокое, остается у Толстого всегда единым). Жизнепонимание человека, если оно точно жизнепонимание, а не мудрствование лишь, если оно, особенно, не взято, так сказать, напрокат, если человек приходит к нему своей жизнью, не отливается сразу в совершенную форму. В нем неизбежны противоречия, неясности. И противоречия эти имеются в писаниях Толстого. Но противоречия эти в писаниях Толстого суть именно вехи на пути жизни и мысли Толстого, суть противоречия роста и знаменуют обыкновенно собою не шаг назад, а движение вперед. При изучении произведений Толстого необходимо иметь в виду его постоянно движущуюся вперед живую личность. Необходимо вместе с ним подвигаться вперед – тогда все недоразумения и противоречия в его писаниях разъяснятся и устранятся сами собою. Толстой обладает столь редкой в нашей жизни способностью высшей самостоятельности, самостоятельности не только в смысле свободы от поклонения чужим мнениям и определенным общественным течениям и лозунгам, но и в смысле свободы от самопоклонения. Он не любил защищать высказанное им только потому, что оно высказано им, и он не заботился о том, чтобы высказанное им сейчас не противоречило высказанному им раньше. Сознав свою ошибку, он отбрасывал ее с радостью, с восторгом даже. Было время, когда Толстой делил людей на comme il faut и comme il ne faut pas, когда он готов был признать человека дрянным потому, что он без перчаток и говорит на дурном французском языке. Было время, когда Толстой не находил возможным подать руку лакею, потому что он лакей – и Толстой это высказывал. Было время, когда Толстой восторгался героизмом защитников Севастополя – и он это высказывал. Было время, когда Толстой находил, что правда и счастье – это мирная и деятельная семейная помещичья жизнь – и Толстой это высказывал. Пришло время, когда у Толстого изменились взгляды на жизнь, на людей (вернее, не изменились, а освободились, очистились от налета сословности, барства, национальности и пр.), когда изменились представления высокого и низкого, важного и неважного, когда все в его глазах переместилось: правое стало левым, левое – правым, высокое – низким, ничтожное – важным, – и Толстой с радостью освобождения отбросил все сказанное им раньше. «Герой мой, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен – правда». Эти слова сказаны Толстым по поводу «Севастопольских рассказов» – и они могут быть приложимы ко всем вообще писаниям Толстого. Правда, живая правда, страстное искание ее – вот что объединяет все произведения Толстого. Толстой почти никогда не был просто и исключительно художником, а всегда является прежде всего страстным и глубоким искателем. Поэтому-то художественные произведения Толстого суть не просто художественное воспроизведение жизни, но вместе с тем глубокое и страстное искание ее. Он выводит массу лиц во всевозможных состояниях и положениях, но не просто выводит их, не просто показывает их, не просто увлекается своим искусством, умением выводить и показывать их, но в то же время сам глубоко-глубоко всматривается в них. Он входит в жизнь своих героев, вселяется в них, с каждым почти ведет глубочайшую интимную беседу – такую, какую люди никогда обыкновенно не ведут. Он будто спрашивает каждого из них: а ну-ка, покажи себя, покажи хорошенько, чтоб ты, точно ты, был виден; покажи, что скрыто под всеми этими заботами твоими, горестями и радостями, под всеми этими улыбочками, шуточками, словами и воздыханиями. Ты ли ты, или только разыгрываешь себя? Счастлив ли ты? Доволен ли ты своей жизнью? А если счастлив и доволен, – то почему? Потому ли, что твоя жизнь точно осмысленная и полная, что ты точно нашел свое настоящее счастье, или потому, что ты закрыл глаза, что давно-давно уж мертв? А если несчастлив и недоволен, то, опять-таки, почему? Потому ли, что вообще невозможно быть счастливым и довольным, или потому, что ты сам виноват, что не умел жить, не умел найти и понять, в чем оно – твое счастье?.. Толстой, повторяю, не рисует просто жизнь, но глубоко, всем сердцем своим, ищет ее – ищет ее повсюду и везде: и во дворце, и в высшем свете, в объятиях дикой природы, и в страстной любви, и на поле брани, и в мирной спокойной семейной жизни в деревне, на лоне природы, – и в результате его исканий и великого таланта – его глубочайшие и замечательные художественные произведения. Но если, с одной стороны, во всех почти художественных произведениях Толстого виден не только великий художник, но и глубокий мыслитель, чуткий и страстный искатель, то и с другой стороны – все почти его философско-религиозные произведения в сущности суть лишь последний вывод той глубины понимания, глубины художественного созерцания живой человеческой души, того знания сокровеннейшего в человек, которое раскрывается нам в его художественных произведениях. Все главнейшие философские положения и выводы Толстого суть именно обобщение того сам а го, что раздроблено и разлито в его художественных произведениях, суть, так сказать, общий итог и концентрация всего жизненного и творческого опыта Толстого. Страхов (кажется) сказал о Достоевском, что он чувствовал мысль. С не меньшим, если не с большим, правом можно эти слова приложить к Толстому. Толстой никогда не был «сухим» и холодным мыслителем (вопрос: может ли вообще мыслитель, – если он точно мыслитель и если мы понимаем его, – быть холодным и сухим). Толстой никогда не ставит себе преднамеренно на разрешение вопросов и задач, как таковых, из любви, так сказать, к ним. Толстой жил. Полными и открытыми глазами он не то, что всматривался, а впивался в жизнь и, поскольку жизнь выдвигала перед ним свои вопросы и задачи, постольку он и занимался ими. Мысль Толстого почти всегда практична (не в грубом, узком смысле этого слова, а в самом высшем и широком). Отвлеченные мудрствования, так называемые отвлеченные проблемы, не занимали Толстого. Мысль Толстого всегда жизненна, всегда имеет непосредственное отношение к живой жизни: большей частью она связана с самыми высшими и сокровеннейшими личными переживаниями и чувствованиями. Жизнь во всей своей глубине всегда стоить перед Толстым, создает ли он свою «Анну Каренину», «Войну и Мир», или пишет «О жизни» и «Так что же нам делать». В предисловии к дневнику Амиеля Толстой говорит: «Писатель ведь дорог и нужен нам в той мере, в которой он открывает нам внутреннюю работу своей души, само собой разумеется, если работа эта новая, а не сделанная прежде». И Толстой, точно, дорог нам не просто как великий художник и не только как глубокий мыслитель, не только за те чудные и светлые минуты, которые он заставлял и заставляет нас переживать своими произведениями, но и потому, что он сам (не в воображении только, а глубоко, всем сердцем) их переживал. И потому-то нам дороги особенно его писания, что в них вся почти душа его, вся его напряженная работа, что в них чувствуется обаяние его великой и правдивой личности. Толстой слит со своими произведениями. Он живет и будет жить в них. И незачем искусственно расчленять и делить то, что составляло и составляет одно прекрасное цельное. №2, с. 47-52 Мы не будем подробно останавливаться на биографии Толстого.1 Остановимся лишь на некоторых важнейших моментах его жизни и творчества для того, чтобы быть в состоянии в общих хоть чертах разобраться в том душевном процессе, тех переживаниях, который привели Толстого к его жизнепониманию, и чтобы, таким образом, быть в состоянии глубже и правильнее понять и оценить это жизнепонимание. Толстой родился в патриархальной дворянской семье, рано лишился родителей (мать его умерла, когда ему было полтора года, а 9-ти лет он лишился и отца). Но это раннее сиротство не наложило, однако, своей тяжелой и мрачной – часто неизгладимой даже – печати на жизнь и личность Толстого. Судьба благоприятствовала ему: в лиц родственницы Т. А. Ергольской она дала ему точно вторую мать. Чисто материнская нежность видна в ее отношениях к ребенку и юноше Толстому. Атмосфера, в которой воспитывался Толстой, была вообще любовная и в общем содействовала развитие в душе ребенка природных его склонностей и способностей. Воспоминания детства навсегда остались для Толстого самыми светлыми и радостными. Ребенком он был очень застенчив и самолюбив. Он временами очень страдал от сознания недостатков своей наружности. «На меня, рассказывает Толстой от имени Николеньки Иртеньева, находили минуты отчаяния: я воображал, что нет счастья для человека с таким широким носом, толстыми губами и маленькими серенькими глазами, как я. Я просил Бога сделать чудо – превратить меня в красавца». В семье Толстых господствовали лучшие традиции дворянства того времени. Дух гордой самостоятельности и степенности (дух старого князя Волконского) не мог не оказать свое влияние на ребенка; вместе с тем, ему, разумеется, привиты были обычные верования, обычные идеалы, обычное понимание порядочности, чести, значения и прав дворянства, патриотизма и пр. и пр. Но эти привитые понятия и верования не мешают впечатлительной душе ребенка воспринять свободно непосредственное влияние живой жизни. Глубокая природная наблюдательность видна уже в ребенке. Он все видит, от него ничто не ускользает: ни добрая любящая его «тетушка», ни богомольные странники, часто бывавшие в их доме, ни управляющей, ни дворовые, ни собака, ни лошадь – все, все запечатлевается где-то там глубоко, глубоко в детской душе. Бессознательно завязывается клубок живых впечатлений, который все больше и больше разрастается, – и ни одно впечатление не пропадает даром. Мысль, анализ пробудился в Толстом чрезвычайно рано. В раннем детстве мысль его не выходит из пределов чисто личного, непосредственно относящегося к нему и семье. Ребенок задумывается, например, зачем это учитель-немец беспокоит его, хлопая мух у его постели; – почему именно у его, а не у постели брата. Брат, заключает он, старший, а меня, как младшего, – ничего, можно потревожить... И он злится на учителя, и все ему кажется противным в нем, но чувство злости тотчас же сменяется в нем раскаянием и умилением перед добротою Федора Ивановича (в повести Карла Ивановича). В отношениях к этому учителю особенно сказывается редкая чуткость, природная доброта и мягкость характера ребенка. Непосредственно своей детской душой ребенок чувствует, что Федору Ивановичу плохо, что он одинок и несчастен. И ребенку необыкновенно жалко и ему хочется сделать так, чтобы Фед. Ивановичу было хорошо. И наивное выражение этой жалости не может не трогать – и ребенку, точно, удается иногда разогнать грустные думы Федора Ивановича. Вместе с возрастом мысль Толстого-ребенка все ширится, выходит из предела личного и захватывает все новые и новые предметы и явления. Постепенно она начинает раскрывать перед ним весь мир с его разнообразными интересами и отношениями, горестями и радостями. Ясное сознание, что на свете живут не они одни (Толстые) и что не все интересы жизни вертятся вокруг них; ясное сознание о том, что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с ними (Толстыми), не заботящихся о них и даже не имеющих понятия об их существовании – Толстой относит к началу своего отрочества. В этот период жизни в душе Толстого начинает пробуждаться уж и серьезная философская мысль. Все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представлялись ему, и – что особенно замечательно – в этих отроческих мыслях Толстого есть уж семена его будущих воззрений. Так, Толстой-отрок приходит уже к тому, что счастье не зависит от внешних условий, а от нашего отношенья к ним. Мысль эта, как и другие подобные, приходит ему независимо от каких бы то ни было философских теорий. Он даже воображает, что первый открывает их, и он не ограничивается одними лишь мыслями; он (черта так характерная для Толстого) тотчас старается приложить их к жизни. Решив, что счастье зависит от себя, от своего отношения к жизни и превратностям судьбы, от привычки переносить страдания, – он хочет выработать в себе эти условия счастья и заставляет себя, несмотря на страшную боль, держать по пяти минут в вытянутых руках объемистые лексиконы Татищева, или уходить в чулан и веревкой стегает себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступают на глазах. Задумывается отрок Толстой и о смерти. Он удивляется, как это люди заботятся о будущем и упускают настоящее, когда смерть ждет их на каждом шагу, каждый час, каждую минуту, и он приходит к мысли, что надо пользоваться настоящим, – и три дня под влиянием этой мысли, бросает уроки и занимается только тем, что лежа на постели, наслаждается чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые покупает на последние деньги. Задумывается также отрок над вопросом о сущности мира – о том, что такое те предметы, которые он видит: точно ли они такие, какими он их видит, или они ему таковыми только представляются. Одно время он даже сильно сомневается в реальности видимого мира. Быть может, на развитие этих мыслей сказалось какое-нибудь внешнее влияние (бессознательное) – беседа старших братьев и их друзей, и т.д. Но судить об этом положительно нет возможности... Философия вообще рано стала занимать Толстого. Пятнадцати лет он уже читал философские сочинения («Исповедь»). Разумеется, что приведенные мысли владели не всецело отроком; разумеется, что рядом с ними было чисто детское и отроческое, были и детские шалости, и детские радости, горести и пр. Воображение сильно развито в Толстом-отроке. Часто он мечтает о своих будущих необыкновенно геройских подвигах. Главным элементом этих воображаемых подвигов является самоотвержение; но к нему в значительной степени примешивается тщеславие – порок, так глубоко прослеженный Толстым во всевозможных его проявлениях и так ненавистный ему как в себе, так и в других. У Толстого-юноши есть уж глубокий идеал – идеал, по сущности своей так совпадающей с идеалом Толстого-старца. Толстой-юноша обожает добродетель. Он убежден, что назначение человека – это работа над собою, постоянное совершенствование. Юноше кажется, что очень легко и просто исправить себя, усвоить все добродетели и быть счастливым. Легко кажется исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские. Рядом с этим юноша сильно иногда мечтает о другом, – особенно о «ней», о любви к этой воображаемой «ей», мечтает о славе, о громком имени, о необыкновенном счастье. И все эти мечты сплетаются и переплетаются между собой. Минутами порывы к чистой, светлой и доброй жизни достигают крайнего напряжения, и в подобные минуты он испытывает отвращение к себе за свое несовершенство, кается, и с тем большей верой смотрит на свое будущее. Что-то ясное говорит ему, что «она с обнаженными руками и пылкими объятиями, еще далеко, далеко не все благо» – и кажется ему, что истинная красота и благо должны быть выше, выше, чище, что они должны иметь источником божественное, а не человеческое. И он стремится к этому божественному, но часто сбивается – и тут же мечтает стать вполне светским, «comme il faut»-ным (порядочным) молодым человеком. Условия же «комильфо» следующая: первое и главное – отличный французский язык и выговор; второе – ногти длинные и чистые; третье – уменье кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое – равнодушие ко всему и выражение изящной презрительной скуки. Мы видим, таким образом, как в Толстом-юноше переплетаются высшие стремления – любовь к правде и добру – с чисто животными влечениями и с привитыми понятиями и условными идеалами. Если б Толстой был заурядной натурой, они (эти разнородные и противоречивые стремления), пожалуй, ужились бы рядом, не мешая друг другу и сообразно обстоятельствам друг другу уступая. Но в томе то и замечательное свойство и цельность натуры Толстого, что он не может жить без внутреннего единства, что он не может «служить двум господам», что ему нужно Единое, Единое, которому можно было бы отдать всею себя, – все, все свои духовные силы и способности – и потому для Толстого сплетете этих противоречивых элементов – стремление к абсолютному добру с требованиями «комильфо» – и прочее есть завязка неизбежной внутренней борьбы, которую мы и можем проследить в последующей период жизни Толстого и из которой, как мы знаем, он вышел, поистине славным и великим победителем. Университет в жизни Л.Н. (в смысле влияния на внутреннюю его жизнь и миропонимание) особого значения не имел. Здесь впервые, должно быть, сложилось то отрицательное отношение к постановке школьного дела и к условиям современной школы, которое впоследствии так ярко выразилось в его педагогических и других статьях. Внешняя жизнь Толстого-студента проходит, главным образом, в светских удовольствиях – балах, маскарадах, концертах, разного рода вечерах и пр. Учился Толстой вообще довольно плохо. У него не было тех качеств, которые необходимы были, да и сейчас необходимы еще (ибо постановка и условия образования в сущности почти не изменились с того времени) для так называемых «хороших» учеников. Для того, чтобы быть «хорошим» учеником необходимо, как известно, быть достаточно вышколенным, необходимо полное подчинение и слепое доверие к преподавателям и их педагогическим приемам; необходимо изучать все то, что полагается программой, и так, как полагается программой; необходимо, словом, насколько можно, полное стушевывание личности ученика, личных особенностей его характера. Толстой же был недостаточно вышколен; личность его то и дело давала себя знать. Он подмечает слабые и смешные стороны преподавателей-профессоров, ту значительность и торжественную важность, с которой, большей частью, они вещают свои истины; позволяет себе критически относиться к самым этим истинам, из которых (о, ужас) некоторые представляются ему совершенно лишними, ненужными и глупыми. Назарьев, товарищ Толстого по университету, рассказывает, между прочим, как Толстой однажды напустился на историю, как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет. История – это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, – что же это, как не сказка, и кому нужно знать что 2-ой брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21-го ноября 1562-го года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской в 1572-м году? А ведь от меня требуют, чтобы я задолбил все это, а не знаю, так ставят единицу. А как пишется история. Все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 г. из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного и свирeпого тирана, как и почему, об этом не спрашивайте. Затем, продолжает Назарьев, Толстой обрушился на университет и университетскую науку. «Храм наук» уже не сходило с его языка. Оставаясь неизменно серьезным, он (Толстой) в таком смешном виде рисовал портреты наших профессоров, что при всем желании остаться равнодушным, я хохотал, как помешанный. А между тем – заключил Толстой – мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными и знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвращаясь восвояси в деревню? На что будем пригодны, кому нужны – настойчиво допрашивал Толстой. (Цитировано по Бирюкову, 1-ый том). Такое отношение к преподаваемым предметам и к преподавателям, разумеется, не могло не отразиться отрицательно на успехах в занятиях Толстого. Университетская наука, требовавшая, главным образом, пассивного лишь восприятия и запоминания того, что читалось разными профессорами, что не занимало Л.Н., давала очень мало пищи самостоятельному и живому уму Толстого и не могла удовлетворить его. Работа, заданная Толстому проф. Мейером, – сравнить «Дух законов» Монтескье с «Наказом» Екатерины, – очень заняла его и открыла ему новую область самостоятельного умственного труда, а «университет – слова Толстого – не только не содействовал такой самостоятельной работе, но мешал». В университете, видно, зародилось уж в Толстом и скептическое отношение к так называемым общественным наукам, особенно к науке «права», которая одно время увлекла было его. Он надеялся, что она разъяснить ему то, что ему было неясно в жизни и отношениях людей. Но надежды его не оправдались. Он не нашел того, что искал. Толстой, однако, не дерзает еще отрицать эту науку, наоборот, он готов винить себя, свое непонимание. «Помню, – рассказывает Толстой, – как на втором курсе меня заинтересовала теория права. И я не для экзаменов только начал изучать се. Думал, что я найду в ней объяснение того, что мне казалось странным и неясным в устройстве жизни людей. Но помню, что чем более я вникал тогда в смысл теории права, тем все более и более убеждался, что или есть что-то неладное в этой науке, или я не в силах понять ее. Проще говоря, я понемногу убеждался, что кто-то из нас двух должен быть очень глуп: или Неволин, автор энциклопедии права, которое я изучал, или я, лишенный способности понять всю мудрость этой науки. Мне было тогда 18 лет, и я не мог не признать того, что я глуп, и потому решил, что занятия юриспруденцией выше моих умственных способностей – и оставил эти занятия» (Письмо о праве). Внутреннего интереса Толстой не нашел в университетских занятиях и, – побывав на восточном факультете и перекочевав на юридический, оставляет, наконец, совершенно университет и уезжает в деревню. Но, оставляя университет, Толстой не думает прекратить занятия вообще наукой. Напротив. В своем дневнике2 он намечает себе целый ряд предметов и наук, которые он решил изучить в деревне. Сюда входит и курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет (кандидатский диплом нужен был Толстому для поступления на службу, мысль о которой временами не переставала, как увидим, занимать его), практическая и отчасти теоретическая медицина, сельское хозяйство, история, география, статистика, математика, некоторые познания в естественных науках; кроме того, он намечает себе написать диссертацию, достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи, изучить языки французский, русский, немецкий, английский, итальянский, латинский, написать правила (жизни и поведения – для себя) и составить сочинения по всем изучаемым предметам. Мы видим, таким образом, что умственные и духовные интересы Толстого были очень широки и разнообразны и никак не могли вместиться в узкие рамки программы официальной университетской науки. Толстой в деревне. Он пытается посвятить себя деревенской жизни, она влечет его; он даже чувствует, что рожден для нее. Он хочет быть помещиком, но не просто помещиком, а идеальным помещиком; он хочет быть помещиком для того, чтобы быть полезным и делать добро своим людям. Не моя ли священная и прямая обязанность – думает он – заботиться о счастье тех семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу. И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благодарная, блестящая и ближайшая обязанность. Задушевные мысли и чувства Толстого того времени запечатлены в «Утре Помещика». Нехлюдов-Толстой в сущности ужасно одинок. Тетушка – его лучший друг; она любит его, но считает его планы детскими и несбыточными. Вся его работа в деревне, все мечты его представляются ей чем то милым, благородным, но и только. Она предостерегает его. В ее словах и советах слышится опыт, житейская мудрость, сильная любовь – она даже особенно любит его за эти именно его несбыточные мечты, за его порывы, но... она мечтает о другом. Она желает его видеть сильным, здоровым, светским веселым человеком, желает видеть его адъютантом, и, лучше всего, у государя; еще желает она, чтобы он имел связь с замужней женщиной «rien ne forme un homme, comme une liason avec une femme comme il faut» (ничто так не формирует человека, как связь с порядочной женщиной); наконец, – и самого большого счастья – она желала того, чтобы он женился на очень богатой девушке. Но Нехлюдов-Толстой не соглашается с тетушкой. Он верит себе и своим стремлениям. И он находит отзвук своим стремлениям в этой деревенской тиши – в этой невыразимой, но непосредственно говорящей всегда душ Толстого, жизни природы. Нехлюдов совершает свою раннюю утреннюю прогулку. Майская, сильная, сочная и спокойная природа. Грезы неясные наполняют душу. То представляется ему сладострастный образ женщины и кажется ему: вот оно, невыразимое желание (предмет мечты его). Но тут же какое-то высшее чувство говорить: не то. Что же? Постигнуть и открыть тайны и законы бытия? Нет, опять не то... И вот без мысли, желания, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому бесконечному небу. Вдруг без всякой причины на глаза его навернулись слезы и, Бог знает, каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением, – мысль, что любовь и добро – есть истина и счастье, и одна истина и одно возможное счастье в мире. Высшее чувство не говорит: не то; он приподнялся и стал проверять эту мысль. «Она, она, так», говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую – ему казалось – совершенно новую истину. «Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что любил», говорил он сам себе: «любовь, самоотвержение – вот одно истинное, независимое от случая счастье, – твердил он, улыбаясь и размахивая руками» и внутренне голос говорит: так, то, то... Этот необыкновенный светлый восторг не случайное лишь явление для Толстого, не настроение только. Это восторженное просветление в высшей степени характерно для Толстого – в нем весь он, вся сущность его души... №3, с. 90-95 «Итак, я должен делать добро, чтобы быть счастливым». И у Нехлюдова-Толстого нет насчет своего решения никаких сомнений. Он планирует свою жизнь, вырабатывает себе правила поведения. Он ведет свой дневник, следит за собой, отмечает свои слабости, предостерегает себя от ошибок и увлечений. Он ставит, между прочим, себе в правило удаляться от женщин, чтобы не впасть в сластолюбие, изнеженность, легкомыслие, и пр. Стремление к нравственному самоусовершенствованию еще не обособляется пока у Толстого от стремления к совершенствованию себя вообще. Он хочет быть не только добрым, хорошим, но всесторонне развитым. Он старается совершенствовать себя умственно, старается совершенствовать свою волю, совершенствуется физически, всякими упражнениями, изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. Он не перестает размышлять и о цели жизни и приходить, между прочим, к мысли, что перемены в образ жизни должны быть не произведением внешних обстоятельств, но произведением души, т. е. приходить к тому, что жизнь должна быть сознательным творчеством. Со свойственным ему увлечением и страстностью Нехлюдов принимается за дело хозяйства: он лично входит во все подробности, делает попытки сближения со своими мужиками, стремится поднять их благосостояние и нравственный уровень, но скоро разочаровывается... Он слишком чуток, и ему становится за что-то тяжело, грустно и чего-то стыдно. Он краснеет и запинается, когда убеждает своего мужика Чурасова послать своего сынишку в школу, ибо чувствует в душе, что не до школы Чурасову, у которого семь душ детей, грыжа, больная жена, развалившийся сарай и грозящая разрушиться изба. Нехлюдов краснеет, когда дает тому же Чурасову на корову, и хоть ему приятно давать, приятно сознавать себя хорошим, благодетелем, но в глубине души он не перестает чувствовать, что в его деятельности что-то не то, какая-то фальшь; чувствует он это и в отношениях к себе крестьян. Какая-то стена стоит между ними и мешает их сближению (стена рабства и недоверия). Подобное же чувство неловкости и стыда, в еще большей степени, испытывает Л. Н. и позднее, во время переписи в Москве, когда пытается заняться благотворительной деятельностью. Только тогда, позднее, Толстой нашел причину этой неловкости и стыда (выяснение этой причины посвящена его большая статья «Так что же нам делать»). Нехлюдов еще далек от тех выводов и мыслей, к которым приходит Толстой в указанной статье. (Может, впрочем, они уже и тогда мелькали в его душе). Нехлюдов видит, что мужику пользы мало, видит, что нет того, о чем он мечтал, – нет полноты жизни, нет счастья. Умудренная опытом тетушка, оказалось, была права: ничего из его мечты не вышло, все в деревне осталось по-старому. Да, тетушка была права, но не совсем. В основном – в том, что сказали ему в это памятное майское утро прозрачные облака, пробегавшие по глубокому бесконечному небу, – в том, что любовь и добро одно единственное счастье, – Нехлюдов не разочаровался, не разуверился и покидая деревню. Толстой в Петербурге. Он готовится к кандидатскому экзамену, намерен по сдаче экзамена (и даже в случае несдачи его) поступить на службу чиновником. В Петербурге он полагает, как пишет брату, остаться навеки: «Петербургская жизнь на меня имеет большое и доброе влияние: она меня приучает к деятельности и заменяешь для меня невольно расписание; как то нельзя ничего не делать, все заняты, все хлопочут»... И Толстой увлекается этой жизнью. Он убежден, вполне даже убежден, – как пишет, – что «умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, т. е. быть практическим человеком. Это большой шаг и большая перемена. Еще этого со мной ни разу не было». И он хочет уговорить брата и себя самого, что он точно стал «положителен», что он точно переменился: «Я знаю, – пишет он, – что ты никак не поверишь, чтоб я переменился, скажешь: это уж в двадцатый раз, и все из тебя пути нет – самый пустяшный малый. Нет, я теперь совсем иначе переменился, чем прежде менялся. Прежде я скажу себе: «дай-ка я переменюсь», а теперь я вижу, что переменился, и говорю: «я переменился»». Пред нами обычная история молодой одинокой души, ищущей пути жизни и не находящей поддержки и сочувствия своим исканиям. Подавленная собственными страстями и спугиваемая общим уверенным потоком обычной жизни, она готова иногда отказаться от себя, готова поверить этому потоку, готова окунуться в него, но, не будучи в состоянии удовлетвориться, мечется из стороны в сторону, создает тысячи разнообразных и противоречивых планов и, разумеется, постоянно ошибается. А молодые силы ищут исхода и страсти бушуют, и, то и дело, прорываются в самой неожиданной и часто самой пошлой форме. Приведенное письмо Толстого было писано 13 марта 1848 года, а вот что он пишет 1-го мая того же года брату: «Сережа. Ты, я думаю, уже говоришь, что я самый пустяшный малый – и говоришь правду. Бог знает, что я наделал: поехал без всякой причины в Петербург, ничего там нужного не сделал, только прожил пропасть денег и задолжал. Глупо, невыносимо глупо... Я знаю, ты будешь ахать, но что же делать? Глупость делают раз в жизни. Надо было мне поплатиться за свою свободу (некому было сечь – это главное несчастье)», и т.д. и т.д. Но, впрочем, Толстой не отчаивается и надеется еще на свое «исправление». «Бог даст, – продолжает он в письме, – и я исправлюсь и сделаюсь порядочным человеком. Больше всего я надеюсь на юнкерскую службу; она меня приучит к практической жизни». Скоро, однако, он оставляет и это намерение (поступить в юнкеры) как «глупое», бросает занятия (он начал было уж держать кандидатский экзамен, выдержал уж два экзамена хорошо), увлекается страстно музыкой, оставляет Петербург и проводит несколько лет то в Ясной, то в Москве, как «самый пустяшный малый», и самым ярким образом указывает, что глупость делают иногда не раз в жизни... Вино, карты, кутежи, охота, цыгане, самоупреки и раскаяние и... опять карты, кутежи и т. д. и т. д. Душевное состояние временами – в высшей степени угнетенное. На время – весьма даже продолжительное – он оставляет свои дневники. Внутренняя работа, однако, не прекращается; он не перестает следить за собой, и, падая, он не вступает в сделку со своей совестью, не оправдывает себя и не боится называть вещи вполне своими именами. «Живу совершенно скотски», – записывает он в возобновленном своем дневнике – «занятия свои все оставил, и духом очень упал»... И подобные записи, свидетельствующие о беспощадном анализе и самообличении очень часто встречаются в дневниках Толстого. «Вот», – между прочим, записывает он, – «причины многих ошибок: нерешительность, т. е. недостаток энергии, самообман, торопливость, ложный стыд, дурное расположение духа, сбивчивость, подражание, непостоянство, необдуманность...». Сознание Толстого, несмотря на все его страсти и увлечения, не изменяет ему, оно остается все время свободным и ясным. Толстой часто скрывает это сознание свое, стыдится даже иногда высказать его, ибо оно может поставить его в смешное положение «ridicule», чего Толстой ужасно еще боится. Но в душе оно остается все то же. Материальное положение Толстого, благодаря его беспорядочному образу жизни, было также весьма печальное. Он ужасно стеснен в деньгах, так что подумывает даже для того, чтобы поправить свои дела, снять почтовую станцию в Туле. (Бирюков, т. I). Но, видно, не судьба было Толстому стать станционным смотрителем... При первом удобном случае он оставляет все и уезжает на Кавказ. Повесть «Казаки» может нам дать представление о душевном состояли Толстого того времени. Оленин – человек еще не установившийся; он находится как раз в самом важном периоде своей формации. Он перерос духовно ту среду, из которой вышел. Он ушел от ее жизнепонимания, ее идеалов, но он еще не выработал своего жизнепонимания. У него нет ничего определенного, нет ясного непоколебимого направления и руководства в жизни. Оленин ни во что не верит: для него нет ни семьи, ни отечества, ни веры. Оленин является нам, таким образом, нигилистом. Но нигилизм Оленина переходной – это нигилизм ума, исключительно ума. Души же Оленина он почти не затронул вовсе. Душа Оленина – это, в сущности, все та же простая, любящая, стремящаяся к свету, душа Нехлюдова. Оленин, подобно Нехлюдову, не перестает верить в этот свет – в правду и добро. Разница между Олениным и Нехлюдовым та, что Нехлюдов наивнее, проще, пожалуй, чище Оленина. Нехлюдов не знает еще многого, что Оленин успел уже изведать и узнать. Оленину не кажется уж так легко и просто уничтожить все свои пороки и слабости и вести хорошую, добрую жизнь. Но в том, что жизнь должна быть хорошая и добрая, Оленин (душою, не умом) так же мало сомневается, как и Нехлюдов. У Оленина, как мы говорили, нет ясного и определенного жизнепонимания. В личной своей практической жизни он продолжает руководствоваться своими привычками и теми идеалами, которые были привиты ему и которым в душе он не верит. И Оленин не чувствует сильно, не очень страдает от сознания противоречия своей жизни. Он слишком молод, стихийная сила жизни в нем слишком велика, и он отдается ей, отдается просто впечатлениям минуты и забывается. Так, Оленин решил, что любви нет, а всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляет его замирать. Он давно знал, что почести и звания – вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на балу к нему подходил князь Сергий и говорил ласковые речи. Оленин даже несколько любуется своим скептицизмом. Но в самые светлые минуты Оленин сознает, что жизнь его «не то», и что должно быть «то». И в эти минуты он не перестает искать, «куда бы положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке: на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или практическую деятельность». И вот Оленину кажется, что он, наконец, нашел «то». Новая жизнь открылась ему на Кавказе. Его восхищает кавказская природа, особенно горы, восхищает вся эта вообще особенная, так непохожая на привычную ему московскую обстановку: и эта охота на фазанов, кабанов, оленей, и этот беззаботный, добродушный, веселый и вольный гуляка – дядя Ерошка; восхищает красавица Марьянка; восхищают эти джигиты, их удаль беззаботность, их молодечество и красота, и эти попойки, игры, песни, этот простор и простота. Оленину кажется, что вот оно то, чего он так долго искал. Он хочет слиться с этой жизнью. Мы знаем, что у Толстого было вообще всегда сильное тяготение к простой, близкой к природе, жизни. Такая жизнь всегда представлялась ему одним из главных условий счастья. Еще Нехлюдов мечтает о такой жизни. Нехлюдов завидует этому бодрому, веселому и здоровому ямщику Дутлову, с обозом разъезжающему по Руси; он жалеет, что не может сам быть этим Дутловым. На Кавказе эти стремления к простой, естественной жизни после московской обстановки, с ее ложью, условностями и одурением, возбудились в нем с новой силой. Оленин серьезно подумывает записаться в казаки и жениться на казачке, но что-то удерживает его. Что же? Трусость? – Нет. Оленин не боится идти своей собственной дорожкой жизни, – наоборот, он не любит торных дорожек, не потому не любит, что они торные, что все идут по ним, а потому, что на этих дорожках он не видит жизни, не видит счастья. «Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь», – пишет Оленин своим близким, испугавшимся его увлечения Марьянкой и намерения записаться в казаки, – «надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте, надо видеть и понимать, что я каждый день вижу перед собою: вечные и неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего Творца, – и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи – вы или я. Коли бы вы знали, как вы мерзки и жалки мне в вашем обольщениях. Как только представятся мне, вместо моей хаты, моего леса и моей любви, эти гостиные, эти женщины с припомаженными волосами, подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящияся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены, этот лепет гостиных… – мне становится невыносимо гадко. Поймите одно или поверьте одному: надо видеть и понять, что такое правда и красота, – и в прах разлетится то, что вы говорите и думаете... Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней». Что же удерживает Оленина, что мешает ему отдаться влекущей его жизни? Сам Оленин полагает, что это его исковерканность, его изломанность, изломанность цивилизованного человека вообще. Но, в сущности, это не так. Оленин не может отдаться этой жизни потому, что она не может удовлетворить его, что в ней нет «того». В сущности, Оленина влечет к этой жизни не положительное, а отрицательное, – то, что в ней нет той фальши и лжи, которая ему так опротивела в московской обстановке. Но, видя светлые стороны этой влекущей его казацкой жизни, он видит в то же время и другие ее стороны – отталкивающие. Любуясь Лукашкой и завидуя его любви к Марьянке, ему приходиь мысль: что за вздор, – Лукашка убил человека – и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости, что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собою? Да, Лукашке ничто не говорит об этом, Лукашка и не думает об этом, а Оленин не может не думать. Оленин не может жить просто, стихийно; он может увлечься, забыться, но мысль, анализ никогда не оставят его – и мысль эта неизбежно разрушит его очарование. Оленин в лесу один. Чувство природы, как всегда, настраиваем его на особенный лад. Он сливается с природой совершенно. Все перегородки, все условное падает. Он входит в жизнь оленя, комара. Ему ясно становится, что он «нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан, или олень, как и те, которые живут теперь вокруг него. Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру; правду говорит Ерошка: только трава вырастет». Но мысли эти не совсем прочны в Оленине – это просто настроение. Оленин не сможет жить комариной жизнью, не сможет успокоиться на философии дяди Ерошки. Среди всей путаницы мыслей, настроений и чувств, в душе Оленина не перестает временами вспыхивать, все одна и та же знакомая уж нам мысль. «Стоит ли того, чтобы жить для себя», – думает Оленин в лесу, воображая близкую опасность, - когда вот-вот умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает. И Оленин ищет случая сделать добро, пожертвовать собою. Он приближает к себе своего соперника Лукашку, одаривает его конем и радуется его счастью. Но он, все же, не может победить свое чувство, не может вытравить своей любви к Марьянке, – не может, ибо он и не пытается это сделать, – тем более, что любовь эта представляется ему в высшей степени поэтической. И не может отдаться вполне своему чувству, ибо не перестает следить за собою. Слова, сказанные им Марьянке, нежности, объятия, – кажутся ему пошлыми; сам он кажется себе гадким. В Оленине происходить борьба страсти с мыслью. Страсть влечет его к Марьянке, мысль говорит «не то». Мысль говорит: «быть твоей женой она не может; между вами пропасть; привычки, воспитание, общественное положение, – все у вас разное»... Но помимо различия в общественном положении, в образовании, в привычках, есть различие более глубокое между Олениным и Марьянкой. Марьянка не понимает Оленина и не может его понять. И Оленин это знает. И это-то непонимание и делает, главным образом, невозможным его брак с Марьянкой. Отдаться же своим влечениям слепо, «сделать ее девкой» Оленин не может. Минутами страсть побеждает его, он даже готов отказаться от своих задушевных убеждений, готов проклясть то, чему поклонялся. «Я писал прежде о новых убеждениях, – пишет он своим московским друзьям, – которые вынес из своей одинокой жизни (убеждения эти состояли в том, что жизнь должна быть самоотверженной любовью). Никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какой радостью сознал я их и увидал новый открытый путь в жизни, – дороже этих убеждений ничего не было. Ну, пришла любовь – и их нет теперь. Нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным умственным настроением, – для меня трудно. Пришла красота – и в прах рассеяла всю эту египетскую, жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет об исчезнувшем Самоотвержении – все это вздор, дичь, это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро – зачем? когда в душе моей одна любовь к себе, одно желание – любить ее и жить с нею ее жизнью. Не для других, не для Лукашки я теперь желаю счастья, я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно, я бы мучился вопросами, что будет с ней, со мной, с Лукашкой, теперь мне все равно. Я не имею своей воли, а через меня любит ее какая-то стихийная сила; весь мир Божий, вся природа вдавливает эту любовь в душу и говорит: люби. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим; любя ее, чувствую себя нераздельной частью всего Божьего мира». Как видим, и тут анализ и рассуждения не оставляют Оленина. Рассуждения, правда, страсти, но все же рассуждения. Лукашка не анализирует, Лукашка не знает и не думает о том, как он любит Марьянку и что в нем любит ее. Любит – и все. И Марьянке ясна эта любовь, и она любит Лукашку этой самой любовью. И все ясно и все просто. Но Оленин не может так относиться к жизни, не может, повторяем, не рассуждать (мысль, самосознание есть самая сущность души Оленина), а эти рассуждения, этот анализ и покажут ему все то, что он в минуту страсти забыл или хотел забыть, покажут ему всю невозможность его любви к Марьянке. «Вот ежели б я мог сделаться казаком Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней (Марьянке) в окно на ночку без мысли о том, кто я и зачем я, – тогда бы другое дело, тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив». Но Лукашкой Оленин не мог стать и из его любви, как знаем, ничего не вышло. №4, с. 128-134 Не нашел Оленин «того» в любви к Марьянке, не нашел и в военной службе и в опасностях войны. Мы, кажется, не ошибемся, если скажем, что побуждения, которые влекли Толстого к военной службе, мало чем отличались от обычных побуждений того же рода: желание занять известное положение в обществе, честолюбие, жажда новый ощущений. К этим побуждениям могли примешиваться и другие: потребность положить конец тому беспорядочному и хаотическому образу жизни, о котором мы уже говорили, и, наконец, традиционный взгляд на назначение дворянства и проч. Трудно, впрочем, сказать, чтобы Толстой решился на этот шаг после долгих размышлений. Сам Толстой в одном письме называет сумасбродной мысль свою поехать на Кавказ. Он, впрочем, не кается в ней и готов даже объяснить ее внушением свыше (письмо к Ергольской 1851 г., янв. 12). «Если мои бумаги не придут через месяц, – пишет он той же Ергольской (письмо от 12 ноября 1851 г.), – я отказываюсь от военной службы, так как не смогу в этом году участвовать в зимней экспедиции, что было моим единственным желанием при поступлении на службу». Но служба не изменила хода внутренней жизни Толстого. И как он был одиноким раньше в Петербурге и в деревне, так он остается одиноким духовно среди товарищей своих по службе. Он не может войти в их жизнь так, чтобы совершенно раствориться в ней. Он отличный товарищ в своем кругу – сходится он далеко не со всеми офицерами – его любят, он не отказывается от участия в товарищеских увеселениях, любит остроумную шутку, отдается иногда игорной страсти. Этот блестящий, словом, офицер, вполне «комильфо». Таков один Толстой. Но посмотрите на него, когда он один, наедине с собою. со своей совестью – и пред вами окажется другой Толстой – Толстой со своим глубоким внутренним миром, глубоко душевный и простой. 3 Приводим несколько выписок из писем Толстого военного периода его жизни. 2Я очень переменился нравственно, и это со мною уже было столько раз. Впрочем, я думаю, что это со всеми так бывает. Чем более живешь, тем более меняешься… Я думаю, что недостатки и качества, основы характера остаются те же, но взгляды на жизнь, на счастье должны измениться с годами. Год тому назад (письмо от 1852 г. 12 января Т.А.Ергольской) я думал найти счастье в удовольствиях, в движениях; теперь же, напротив, отдых физический и моральный – это то, чего я желаю. Ноя представляю себе состояние покоя без скуки, с тихой радостью любви и дружбы – это для меня верх счастья. Впрочем, очарование покоя чувствуешь только после усталости, и радости любви – только после ее лишения. И вот я лишен теперь и того, и другого и потому-то я так стремлюсь к ним. Мне нужно быть лишенным их еще на сколько времени? Бог знает. Не знаю почему, но я чувствую, что это нужно. Религия и опыт жизни, как бы мал он ни был, научили меня, что жизнь есть испытание. Для меня она больше, чем испытание, она есть искупление моих грехов». «Со времени моего путешествия и пребывания в Тифлисе, – пишет он той же Ергольской в мае того же года, – мой образ жизни не изменился, я стараюсь заводить как можно меньше знакомых и воздерживаться от интимности в тех знакомствах, которые я уже сделал. К этому уже привыкли, меня не беспокоят, и я уверен, что про меня говорят, что я гордец и чудак. Не из гордости я так веду себя, это вышло само собой; слишком велика разница в воспитании, в чувствах, во взглядах у тех, кого я встречаю здесь, чтобы я мог находить какое-нибудь удовлетворение с ними… Правда и то, что такой уединенный образ жизни не влечет за собой удовольствий; но я уже давно не думаю об удовольствиях, я думаю о том, чтобы быть спокойным и удовлетворенным… Хотя я не веселюсь, как я вам писал, но и не скучаю, потому что я занят; но, кроме того, я вкушаю еще более высокое, более сильное удовольствие, чем то, которое могло бы мне дать общество – это сознание движения во мне добрых, великодушных чувств… Меня совершенно не беспокоит мысль, что я вам пишу, может показаться напыщенным и смешным в глазах чужого человека, я так уверен, что вы всегда поймете меня. Было время, когда я тщеславился моим умом, моим положением в свете, моим именем, но теперь я знаю, я чувствую, что если есть во мне что-нибудь хорошего, и что если есть за что благодарить Провидение, это за доброе сердце, чувствительное и способное любить, которое оно даровало и сохранило мне. Ему одному я обязан лучшими пережитыми минутами и тем, что, хотя у меня нет удовольствия и общества, я не только доволен, но часто бываю счастлив». Как видим, Толстой не перестает жить своей особенной жизнью, а эта жизнь имеет слишком мало общего (чтобы не сказать более) с той обстановкой и теми условиями, в которых приходилось жить Толстому. И вот в 1853 г. Толстой подает уже в отставку (отставка впрочем не вышла). И с тем же нетерпением, с каким он два года только тому назад ждал своего зачисления на службу, он ждет теперь отставки. «Я уже писал тебе, кажется, – пишет он брату Сереже 91853 г. июля 20), что я подал в отставку. Бог знает, однако, выйдет ли, и когда она выйдет теперь по случаю войны с Турцией. Это очень беспокоит меня, потому что я теперь уже так привык к счастливой мысли поселиться скоро в деревне, что вернуться опять в Старогладовскую и ожидать до бесконечности – так, как я ожидаю всего, касающегося моей службы, – очень неприятно». «…Вот уже год скоро, как я только о том и думаю, как бы положить в ножны свой меч, и не могу (пишет он в декабре того же года брату С.Н.)… Во всяком случае к новому году я ожидаю перемены в своем образе жизни, который, признаюсь, невыносимо надоел мне. Глупые офицеры, глупые разговоры, больше ничего. Хоть бы был один человек, с которым бы можно было поговорить от души… Сам становишься ощутительно глуп». Как мы видели, Толстой не перестает следить за собою, но, не переставая следить за собою, он в то же время следит и за тем, что совершается кругом. Он видит человека, имеющего все, чего обыкновенно добиваются люди: чин, богатство, знатность, – видит это перед боем, который Бог один знает чем кончится, видит, как он шутит с хорошенькой женщиной и обещает у нее пить чай на другой день. Видит затем молодого поручика, робкого и кроткого, изливающего свою непритворную досаду, негодование на людей, которые, как ему кажется, будто бы интриговали против него, чтоб его не назначил в предстоящее дело, возмущенного и огорченного тем т.е. (характерно разъясняет Толстой), что ему не позволили стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами. И Толстой не может ограничиться тем, что он видит, не может ограничиться просто признанием факта. Толстой хочет понять, что такое он видит, хочет понять, что такое веселье генерала, что такое возмущение и досада молодого поручика, и чувствует, что он «совершенно ничего не понимает» («Набег»). «Неужели, - спрашивает Толстой, заканчивая свою картину кавказской летней ночи, - неужели тесно людям жить под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страха истребления себе подобных?» - И это не фигуральный вопрос, не вопрос, поставленный художником исключительно красоты Раи – это глубокий вопрос души Толстого. Правда ответа нет пока, но вопрос поставлен… Толстой слышит слова майора во время боя: “C’est un vrai plaisir que la guerre en aussi beau pays” (истинное удовольствие воевать в такой прекрасной местности), но он не совсем разделяет этого “plaisir”, так как слышит, как с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то. Сзади слышен стон раненого, и этот стон так страшно поражает Толстого, что воинственная картина, увлекшая его, мгновенно теряет для него всю свою прелесть, и ему кажутся излишними и эти движения, и воодушевление, и военные крики. Не то, не то – точно говорит Толстой. А этот молодой, наивный, улыбающийся, красивый, добрый прапорщик» - вот он грациозно сидит на седле и не может удержать своей улыбки молодечества и довольства. Вот он, махая руками, кричит на казаков и отбивает от них беленького козленка, которого те собрались было убить и поделить между собой. Вот он просит позволения броситься на «ура» - и вот «два солдата держат его под мышки. Он бледен, как платок, и хорошенькая голова, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который воодушевлял его за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и опустилась на грудь. «Какая жалость, - вырывается у автора. Зачем это, зачем?» – так и чувствуешь вопрос. И вот в Севастополе на четвертом бастионе Толстой не перестает следить и наблюдать за собою и всем окружающим. Он преклоняется пред героизмом защитников Севастополя, отмечает все трогательное, но не пропускает и смешного, пошлого и грубого, и ужасного, отталкивающего. Он все время остается не просто офицером, а раньше и прежде всего чутким и глубоким человеком. Война занимает Толстого не с военной а почти исключительно с человеческой точки зрения. Война для него раньше и прежде всего……………. С этой точки зрения она главным образом занимает его4 ……………….. К периоду военной службы относится начало писательства Толстого. Душевная работа идет своим чередом и временами достигает крайнего напряжения. Толстой томится чем-то, переживает глубокие религиозные минуты, начинает особенно ясно сознавать свои духовные силы – и тем больше кается в своих ошибках. Вот несколько выписок из дневников Толстого того времени: «С некоторого времени меня сильно начинает мучить раскаяние в утрате лучших годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее… Есть во мне что-то, что заставляет меня верить, что я рожден не для того, чтобы быть таким, как все». «Скромности во мне нет, - записывает он в другом месте, - вот мой большой недостаток. Я дурен собою, неловок, нечистоплотен, светски необразован, я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим и стыдлив, как ребенок. Я почти невежа». Мы видим, как у Толстого все еще сливаются личные (нравственные) требования к себе с требованиями среды, с требованиями «комильфо», и еще много лет пройдет, пока они обострятся. «Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр, я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня необходимой привычкой. Я умен, но ум мой еще ни на чем не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я честен, т.е., я люблю добро, сделал привычку его любить, и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собою и возвращаюсь к нему с удовольствием. Но есть вещи, которые я люблю больше добра: слава – я так честолюбив, и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них». Многие находят, что Толстой преувеличивает свои недостатки, сгущает, так сказать, краски, и он стараются показать. что Толстой был лучше, нежели он сам представляет себя. Но мы полагаем, что Толстой нисколько не преувеличивает, что он только слишком хорошо знал то, что мы обыкновенно так плохо знаем – свои недостатки. Этот суд Толстого над собою есть суд его совести. А совесть всегда беспощадно строга. Толстой слишком глубоко заглянул в свою душу, и при свете своего сознания ничего в ней не могло ускользнуть от него; к тому он был слишком требователен к себе, и чем был требовательнее, тем резче выделял свои слабости и недостатки (кому много дано, с того много и спросится). На Кавказе у Толстого уже блеснула мысль о необходимости новой религии для человечества. Эта мысль сильно увлекает его. «Разговор о Божестве и вере, - записывает он в дневнике, – навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта –основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры5 и таинственности, религии практической, не обещающей будущего блаженства, но дающей блаженство на земле. Привести эту мысль в исполнение, я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать эту мысль следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать сознательно соединению людей религией – вот основание смысли, которая, надеюсь, увлечет меня». _____ Толстой снова в Петербурге. Как автор «Детства» и «Севастопольских рассказов», он пользуется уже известностью в обществе и среди литераторов. Он знакомится с кружком известных петербургских литераторов, но не сходится с ними душевно; не тянет, не располагает его к себе этот кружок. Интересы этого кружка не поглощают его, и он остается чужим среди этих своих собратьев по перу. Тут уже начинает сказываться то особенное, одинокое положение, которое Толстой занял среди «передовой» интеллигенции. Толстой никогда не принадлежал к какой-нибудь интеллигентской партии или группе. Он не был ни славянофилом, ни западником. Для него не существовало этих обычных, так называемых больных вопросов русской интеллигенции. Он идет своим путем, не разделяет общего увлечения Герценом, не разделяет и этого общего культа самопоклонения; он равнодушен к политике, равнодушен вообще к большинству боевых вопросов интеллигенции. «Я всегда, - пишет Толстой Бирюкову, - противился невольно влияниям извне-эпидемическим». К вопросу об общественном устройстве Толстой пришел позже и опять-таки по своему. Общественные вопросы стояли для Толстого не так, как они стоят для большинства русской интеллигенции; они вытекали у него из вопроса о своей личной жизни. Для Толстого был один главный вопрос: как наилучшим образом прожить мне мою жизнь? Из ответа на этот вопрос и вытекли впоследствии ответы на все остальные вопросы жизни, в том числе и на вопросы общественные. Толстой не верит в искренность литераторов, с которыми встретился. Все эти споры и толки об убеждениях представляются ему пустыми словами – и он иногда высказывает колкие и ядовитые замечания по поводу этих убеждений. Толстого раздражает эта самоуверенность, это самодовольство, которого он не мог не заметить среди большинства представителей этого кружка. Раздражение это усиливается в Толстом еще, быть может, вследствие неясности своих собственных желаний и взглядов на жизнь, вследствие недовольства самим собой. Толстому трудно было ужиться с представителями этого литературного кружка; слишком много несогласного было между ними и в отношении к жизни, и в оценке человеческой личности. Для большинства представителей этого кружка ценность личности обусловливалась главным образом той ролью, которую она играла в обществе (личность ценилась главным образом со стороны общественного значения, общественной ее деятельности и талантливости). Для Толстого же ценность личности обусловливалась не общественной ролью ее, не талантом даже, а главным образом нравственными чертами характера. А относительно нравственных черт большинства представителей этого кружка вот что говорит Толстой в своей «Исповеди»: «Усомнившись в истинности самой веры писательской (вера в значение поэзии и в развитие жизни), я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и в большинстве люди плохие, ничтожные по характеру, – много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, – но самоуверенные и довольные собой, как могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди мне опротивели, и я понял, что вера эта обман». Если жизнь Толстого в этот период, быть может, была не чище жизни представителей этого кружка, то зато Толстой никогда не оправдывал этой жизни, видел в ней падение, мучался и страдал. Для большинства же представителей этого кружка падение не было падением, а было естественным явлением. Взгляды этих людей, говорит Толстой, под распущенность подставили теорию, которая ее оправдывала («Исповедь»). Теоретичность мысли, отсутствие связи между убеждениями и личной жизнью отталкивали Толстого. Легкое отношение к вопросам религии и морали, господствовавшее в этом кружке, должно было оскорблять Толстого, который, не веруя сам, все же в глубине души, не переставая, искал этой веры. «Я только что читал письма нашего высокообразованного передового человека 40-х годов, изгнанника Огарева, в другому еще более высокообразованному и даровитому человеку – Герцену. В письмах этих Огарев высказывает свои задушевные мысли, выставляет свои высшие стремления, и нельзя не видеть, что он, как это и свойственно молодому человеку, отчасти рисуется перед своим другом. Он говорит о самосовершенствовании, о святой дружбе, любви, о служении науке, человечеству и т.д. И тут же спокойным6 тоном он пишет, что часто раздражает приятеля, с которым живет тем, что, как он пишет, «возвращаюсь (домой) в нетрезвом виде или пропадаю долгие часы с погибшим, но милым созданием»… Очевидно, замечательно сердечный, даровитый, образованный человек не мог даже представить себе, чтобы было что-нибудь хоть сколько-нибудь предосудительного в том, чтобы он, женатый человек, ожидая родов жены (в следующем письме он пишет, что жена его родила), возвращался домой пьяный пропадая у распутных женщин. Ему в голову не приходило, что пока он не начал бороться и хоть сколько-нибудь не поборол своего поползновения к пьянству и блуду, ему о дружбе, любви, а главное – о служении чему бы то ни было и думать нельзя. А он не только не боролся с этими пороками, но, очевидно, считал их чем-то очень милым, нисколько не мешающим стремления к совершенствованию, а потому не только не скрывал их от своего друга, перед которым он хочет выставиться в лучшем свете, но прямо выставлял их… Я знал самого Огарева и Герцена, и людей того склада, и людей, воспитанных в те же преданиях. Во всех этих людях было поразительное отсутствие последовательности в делах жизни. В них были искренние, горячие желания добра и полнейшая распущенность личной похоти, которая, казалось им, не может мешать доброй жизни и произведению ими добрых и даже великих дел» («Первая ступень»). Нет сомнения, что мысли эти, высказанные Толстым через много лет после столкновения с кружком петербургских литераторов, бродили уже и тогда (в самый период этого столкновения) в его душе. Только тогда не было еще той душевной ясности и того спокойствия, которые чувствуются в только что приведенных словах. Тогда было еще слишком много раздражительности в Толстом. Е.О.Дымшиц Продолжение этого материала планировалось в №5 за 1915 год, но не было пропущено цензурой, см. №5. 1.Интересующимся биографией Толстого мы рекомендуем раньше всего, разумеется, писания самого Толстого, затем воспоминания и дневники людей, имевших личное общение с Толстым. Особенно рекомендуем ценный (лично просмотренный Толстым) труд П. Бирюкова. Этими источниками я и пользовался при составлении настоящей статьи. Е. Д.2.Выписки из дневников Толстого мы заимствуем у П.Бирюкова. Дневники Толстого, к сожалению, еще не обнародованы.3.Эту двойственность отмечает сам Толстой в своем дневнике кавказского периода: «Что-то особенно сладкое и великое есть в равнодушии к жизни, и я наслаждаюсь этим чувством. Как силен кажусь я себе против всего, с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказанное седло, на котором я буду ездить на черкеске, и как я буду волочиться за казачками и проходить в отчаяние, что у меня левый ус выше правого, и я два часа расправлял его перед зеркалом».4.Страницы, разбирающие вопрос об отношениях Л.Н.Толстого к войне, по не зависящих от нас обстоятельствам не могут быть напечатаны. Редакция.5.Догматической6.Курсив мой. Е.Д.
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































