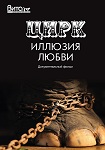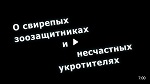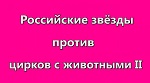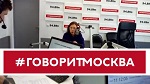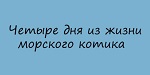|
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 
Формат jpg. 180Kb |
Вегетарианское обозрение, Киев, 1914 г.
ВО.2.3.1915 Почему и как я стал вегетарианцем1 №2, с. 56-58 Почему? Я стал вегетарианцем не из гигиенических и диетических соображений, а по причинам чисто нравственного и социального характера. Правда, мое здоровье никогда не было цветущим, и я не отличался крепостью и силой мышц, но все же не это толкнуло меня к вегетарианству: заботы о теле для меня всегда были чужды и непонятны. Наоборот, социальные и этические вопросы всегда привлекали к себе мое внимание, и в этой области я работал с воодушевлением. Безнравственность мясоедения понятна и очевидна для всех, хоть раз подумавших об этом людей, кроме тех, конечно, которые затыкают уши и закрывают глаза, чтоб ничего не видеть, кроме своего «я» и желающих только одного – удовлетворения прихотей своей утробы. И, однако, наша жизнь построена так ненормально, что тысячи людей не чувствуют ни стыда, ни угрызений совести в то время, когда подают за обедом куски трупов баранов, овец, коров, лошадей, птиц, потому что они об этом никогда не задумывались, им некогда об этом подумать... и они этого еще не знают. Но они узнают! Заповедь «не убий» написана в сердце человека прежде, чем она была написана на скрижалях Моисея, и нравственной природе человека враждебно всякое убийство, всякое уничтожение жизни в другом существе. Вместе с тем я думаю, что «нравственное» и «общественное» в вегетарианстве так тесно и часто переплетаются, что иногда бывает очень трудно их разделить. Отнюдь не намереваясь перевернуть весь мир с помощью вегетарианских столовых, мы, вегетарианцы, просто и скромно вносим свою долю в работу всего человечества, имеющую целью улучшение жизни, уяснение ее смысла и познание ее красоты – и в этом заключается «общественное» в вегетарианстве. Но в тоже время наша проповедь гуманности и любви ко всему живому, наше стремление к упрощению жизни в условиях, наиболее близких к природе, – разве это не влияет на нравственный облик людей? (Если не других, то, по крайней мере, на нас самих). Размышляя о взаимодействии этих двух начал в пределах вегетарианства, я пришел к следующим выводам. (Между прочим, для упрощения и сокращения изложения своих мыслей, я не буду касаться вопроса об ужасах бойни, не буду описывать страдания и муки животных, потому что это гораздо лучше и сильнее сделано в статьях Л. Толстого, Короленко, Е. Исупова, В. Черткова, Ив. Горбунова и многих других). Я задал себе однажды вопрос: «неужели «занятие» убийством животных, пребывание целыми днями (в продолжение нескольких лет) в атмосфере, насыщенной запахом крови, – неужели это проходит даром тому человеку, который в силу тех или иных обстоятельств избрал профессию «бойца»? Неужели человек хладнокровно и равнодушно перерезающий горло теленку, кроткими, добрыми глазами смотрящему ему в глаза, нисколько не изменился с тех пор, как стал заниматься своим ужасным ремеслом? Неужели смерть тысяч животных, которых он сделал «мясом», не оказала на него никакого влияния? Ведь всякая профессия налагает на человека свой особый отпечаток, и мы, при известной внимательности, наблюдательности, легко отличим слесаря от приказчика, чиновника от плотника, мясника от крестьянина и пр. и пр. И такойже отпечаток налагает каждая профессия на душу человека, на его характер, на психику. И, когда я подумал о том, какое влияние может оказать профессия «бойца» на душевный склад человека, когда я вспомнил о наших европейских бойнях, о целых городах, основанных и процветающих «на крови» (Чикаго, напр.), я ужаснулся!.. Если тысячи чикагских бойцов убивают миллионы животных и приучают себя к тому, что совершенно равнодушно относятся к мукам животных, убивают в себе всякое проявление жалости и любви, – и все это только из-за того и для того, чтобы люди могли есть окорока, котлеты и колбасы, то не ясно ли, что, пользуясь плодами ихнего преступления, – поедая эти колбасы и окорока, – я являюсь тоже соучастником убийства? И мало того, что я являюсь соучастником убийства животных, я еще, кроме этого, убиваю и человека – бойца. Известно, что бойцы и, вообще, люди, занятые на бойнях, отличаются очень низким культурным уровнем, в них развиваются самые низшие, животные страсти; алкоголизм среди быкобойцев развит сильнее, чем во всех других профессиях... Каждый мясоед помогает «бойцу» убивать в своем сердце самые лучшие порывы – любовь и сострадание ко всему живому; помогает одичанию человека. Это был мой первый вывод. Если наши нравы настолько жестоки, что мы допускаем существование боен, допускаем и санкционируем убийство животных и смотрим на это, как на самое обыкновенное и полезное для нас дело, то само это наше преступное равнодушие к страданиям живых существ – не влияет ли на нас самих? Мы сами незаметно для себя усваиваем ту эгоистическую точку зрения, с которой смотрим на себя, как на центр вселенной, и которая помогает нам в нашей жестокой и бессмысленной жизни убирать себе подобных. Разве наша жестокость и равнодушие к страданиям животных не имеет никакого влияния на наши общественные отношения? Не отсюда ли (м.б., только отчасти, конечно) наша черствость, наше безучастное отношение к страданиям наших братьев – людей? Мне очень часто приходилось и приходится встречать людей, которые, когда им указывают на преступность и безнравственность мясоедения, отвечают: «Что же делать? Это жестокая необходимость, последствие борьбы за существование. Так было до нас, так будет и после нас! Жизнь – борьба, и сильнейший поедает слабейшего. Это закон природы»! И, говоря так, они твердо уверены, что высказывают самую непоколебимую истину. Ведь это-де сказал «сам» Дарвин! И эти же люди с особенным, хлестким каким-то хладнокровием и ученой «беспристрастностью» продолжают свою речь, переходя к более близкой обстановке – человеческому общежитию. «Всегда были богатые и бедные, рабы и господа, власть и покорность ей, богатство и нищета. Это такой же закон природы, как и первый, и тоже – последствие борьбы за существование»!.. Может быть, с «научной» точки зрения это и так, но мы имеем более гуманное, более близкое и понятное нашему разумному сознанию и всей нашей нравственной природе учение, это учение того, кто сказал: «Поступай с другим так, как хочешь, чтоб с тобой поступали» и «Люби ближнего своего, как самого себя». – И, с точки зрения этого христианского миросозерцания, никакое страдание живого существа не может иметь оправдания... Существует еще один способ оправдания мясоедения. Иногда человек, соглашаясь со всеми доводами вегетарианства, все же продолжает поедать трупы животных и оправдывается тем, что он не может идти «против всех». «Единичные усилия не могут подвинуть человечество к его идеалу и даже часто, наоборот, вредят общему делу. А вот, когда мы достигнем таких-то и таких ступеней общественного развития, тогда и этот маленький и побочный вопрос о способе питания разрешится сам собой». Но говорить так – значит или заблуждаться, или сознательно отказываться от той деятельности, которая единственно в нашей власти: работы над собой. Я понял и теперь твердо знаю, что в нашей жизни нет мелочей: все одинаково важно и значительно. И часто мы укоры нашей совести – требующей, властно зовущей нас к исполнению долга – называем мелочами и отмахиваемся от них. Если крупные исторические факты влияют на жизнь народных масс, то и повседневные «мелкие» факты общественной жизни оказывают свое влияние на эти массы. И кто может учесть это взаимоотношение? И что причина и что следствие? И, поняв все это, я уже не мог продолжать есть мясо, успокаивая себя тем, что это «неважно», что это «мелочи и пустяки» по сравнению с другими общественными задачами, требующими немедленного разрешения. Я стал вегетарианцем.
№3, с. 102-105 Как? I Это было в 1907 г. Сидя в Кр. тюрьме, я совершенно случайно, среди других книг, нашел почти одновременно две книги, оказавшие на меня большое влияние в смысле переоценки ценностей. Это были: «Менэ... текел... фарес» Ив. Наживина и «Этика пищи» Ульямса Хауарда. Насколько первая способствовала моей духовной работе и развитию критического отношения к окружающей революционной среде, настолько вторая заставила меня впервые серьезно подумать о вегетарианстве, и указала «первую ступень» в деле нравственного совершенствования. Еще до чтения этой замечательной книги я, конечно, читал кое-что о вегетарианстве, был знаком с носителями этой идеи, вегетарианцами, и даже быль дружен с одним из них, но, странно, – я никогда не думал о нравственности и безнравственности пищи и не предполагал о возможности постановки такого вопроса. И вот «Этика пищи» (а особенно «Первая ступень» Л. Н. Толстого) заставила меня задуматься о страданиях не только людей, но и безответных, беззащитных животных, тысячами, сотнями тысяч ежедневно убиваемых и пожираемых, в то время как наука и практика доказывает вред и ненужность этого! Конечно, как только я серьезно отнесся к этому вопросу и подумал о связи мясоедения с алкоголизмом, болезненностью и развращенностью «цивилизованного человечества», я понял, какое колоссальное значение должно иметь вегетарианство в деле воспитания «человека» в человеке. И во мне появилось страстное желание воплотить в жизнь идею вегетарианства, отойти, избавиться от греха мясоедения. Но как? – вот вопрос, потребовавший немедленного разрешения. Конечно, будь я на воле, дело решилось бы в два-три дня, но в тюрьме проведение в жизнь таких реформ не так уж просто. Начать с того, что все заключенные размещались не по одиночкам, а в общих камерах. Затем – в некоторых камерах (а в том числе и в той, в которой я находился) существовало коммунистическое устройство хозяйства, и выделиться из коммуны было как-то неловко. Однако, я чувствовал невозможность отказаться от новой идеи, а, главное, – отказаться без всякой попытки, без единого, так сказать, выстрела, сдаться – нет, это было невозможно. Однажды я объявил своим товарищам по камере о своем намерении перейти на вегетарианский режим и испросил у них разрешения пользоваться растительными продуктами независимо от общего пользования. Дело в том, что в нашей тюрьме порядки были очень «свободные» (конечно, не для всех, но для большинства подследственных и привлеченных в административном порядке). Заключенные в силу молчаливого соглашения с администрацией, пользовались правом «открытых камер» (от 7 ч. утра до 8 ч. вечера), свободным переходом «в гости» из камеры в камеру, передачей 2 – 3 раза в неделю провизии, и – самое главное – могли сами себе готовить какую угодно пищу на плите, находящейся в коридоре. Конечно, этим последним правом пользовались очень многие, и поэтому на плите всегда была теснота от котлов, кастрюлек, чайников, судочков и кофейников. Среди общей массы посуды всегда выделялся солидный коммунистический котел нашей камеры (№ 4), всегда попадавший в середину, на самое горячее место. Товарищи составляли тесную, дружную семью (несмотря на различие партийных убеждений), спаянную взаимной симпатией и одинаковым положением. К этому надо добавить, что общее хозяйство и участие всех в ведении его – еще более способствовало тесному единению членов нашей коммуны. Ежедневно очередной дежурный обслуживал всех остальных, приготовлял обед, мыл посуду, следил за чистотой и опрятностью в камере. Провизия, присылаемая с «воли», а частью покупаемая в тюремной лавочке – обыкновенно хранилась за окном, привязанная к решетке. Получив согласие товарищей, я начал вести свое «индивидуальное» хозяйство. Насмешки и иронические замечания со всех сторон сыпались на меня в изобилии. Конечно, не имея практики в приготовлении вегетарианских блюд и без всякого руководства в этой области, трудно было «делать обеды», и приготовляемые мною кушанья заставляли желать многого, но, все же, и товарищи мои были неправы, говоря, что я питаюсь «черт знает чем». Был среди нас один доктор, некто Ф., и он, по-видимому, задался целью «сбить меня с позиции», и начал вести ежедневно такие разговоры: «Вы совсем сумасшедший! Разве возможно в тюрьме вегетарианство? Ведь вы через месяц цингу получите, ноги протянете. На вас и сейчас-то кожа да кости, а если вы не будете питаться как следует, вы совсем пропадете! При отсутствии прогулок, движения, свежего воздуха, вегетарианство – безумие. У вас и при мясной-то диете было отчаянное малокровие, а при этой «небесной пище» – вы чахотку наживете обязательно! Вот помяните мое слово...» и т. д... Признаюсь, что такие речи меня сильно смущали, да и упадок сил, обыкновенно сопровождающей переход с животной пищи на растительную и через 2 – 3 недели пропадающий, – наводил на размышления. Я,конечно, не хотел умирать в К. тюремной больнице, за тысячи верст от родины. Я испугался. С другой стороны меня донимали мои неудачи: то недоварено, то пережарено, то сгорит, то сырое. Мою маленькую посудину передвигали с место на место, кому как хотелось, – ведь это был не «коммунистический» солидный котел 4-ой камеры, пользующейся славой на всю тюрьму и даже за пределами ее! Однообразие моего стола было убийственно. Я, как член коммуны, должен был все-таки подчиняться большинству, как часть целому, не мог требовать, чтоб для меня выписывались отдельные продукты, и пользовался теми, что бывали обыкновенно в распоряжении всех (за исключением мяса, рыбы и т. п.). Поэтому картошка и капуста варьировались на разные лады. И, в конце концов, мне опротивели. Все это – и боязнь болезни, и неудобства с приготовлением пищи, и ее однообразие, и мое неумение, и насмешки, – все это вместе взятое так на меня подействовало, что в один прекрасный день я сдался и... возвратился к убоине. Но это не было безусловной полной сдачей, а только временным отступлением. Семя, раз запавшее в глубину сознания, рано или поздно, даст росток. II Прошли мрачные, полные отчаяния и жгучих угрызений совести годы солдатства, вышел я «на волю» и, хоть сильно искалеченный и надломленный душой, – вздохнул свободно. Женился. Вместе с женой мы решили с первого же дня нашей совместной жизни питаться только растительной пищей и совершенно изгнать из своего обихода животные продукты. Дело пошло гораздо успешнее, чем в первую мою попытку, потому что у нас были и книги под рукой, никто нас не стеснял в наших опытах, да и вообще все условия были совершенно иные. Правда, насмешки и «советы», как и в первом случае, посыпались на нас со всех сторон, но когда насмехавшиеся увидели, что мы были тверды в своих решениях и намерениях, они оставили нас в покое. Мы вступили в семью вегетарианцев. Откровенно признаюсь, что, хотя мы и были совершенно свободны в своих поступках и горели желанием очиститься от трупоедения, но все же, у нас бывали моменты падения, когда мы соблазнялись примером других, или, просто, вспоминали свой прежний образ жизни и пробовали убоины. Бывало это преимущественно на больших праздниках (Рождестве и Пасхе). И обыкновенно за такими падениями следовал особенно «ортодоксальный» период вегетарианства, с раскаянием и сожалением о происшедшем грехе. Во всяком случае, хотя и условно, но, все же, я считал нас вегетарианцами в этот период. Привыкнув к растительной пище, мы с женой чувствовали себя великолепно. (Вообще должен сказать, что с тех пор, как я стал вегетарианцем, я ни разу не болел серьезно, – за исключением припадков инфлюэнцы, болезни чисто простудного характера, так свойственной нам, петроградским жителям). Единственным темным облачком в нашем «вегетарианском» существовании была мысль о том, как может отразиться и повлиять вегетарианство на здоровье моей жены в период беременности. Родственники и знакомые с особенным жаром доказывали необходимость усиленного (как это обыкновенно понимается в данном случае, т. е. животного по преимуществу) питания женщины в период беременности, когда последняя живет двойной жизнью и тратит двойной запас энергии и за себя, и за ребенка. И, сознаюсь, что эти разговоры и советы не проходили бесследно, – я часто ловил себя на самых мрачных мыслях и был близок к отступлению. Жена, обладающая более сильным и настойчивым характером, категорически отказалась от моего предложения – перейти на мясную диету и выдержала характер, за исключением 3 – 4 случаев, когда она ела селедку и кильки, – все время беременности она питалась растительной пищей. Родилась у нас девочка – вполне нормальная, как по телосложению, так и весу, без всяких «отклонений» и дефектов. Это нас приободрило. Оказывается, «не так страшен черт, как его малюют»! Теория – не была опровергнута, наоборот, она доказывалась. Вместе радостью наша детка принесла много хлопот и забот. Жена, конечно, сама кормила девочку, и вот тут-то опять началась сказка про белого бычка. Опять уговоры и советы, и доказательства «нелепости теорий», и пр. пр. Опять на нас напало сомнение. Дело шло не о нас, а о новом человеке – нашем ребенке. Мы ответственны за его воспитание, здоровье, жизнь! Может быть, действительно мы рискуем вырастить рахитичного, золотушного ребенка или «вовсе уморить его» – как говорили добрые знакомые. Мы решили обратить особое внимание как на питание ее (жены), так и на ее работу, прогулки и пр. и, в случае малейших признаков неправильности роста или болезни ребенка, принять все зависящие от нас меры, вплоть до бульонов и котлет. Но этого не пришлось сделать. И вот теперь, когда я пишу эти строки под бойкий топот ножек бегающей по комнате нашей дочурки и гляжу на ее круглые розовенькие щечки, я уже более спокойно гляжу на будущее, и меня не пугают «советы и доказательства» людей, слепо держащихся и верящих во все, что им завещано отцами. Сейчас моей девочке 1 г. 8 месяцев. Она начала ходить с 10 месяцев, а теперь, конечно, великолепно бегает и скачет. В ее телосложении нет никаких неправильностей и дефектов, рост вполне нормальный, нет ни кривизны ног, ни уродливо-большой головы (увы, как часто встречаются последние два «дефекта» в семьях убежденных мясоедов). По своему умственному развитию она гораздо выше своих сверстников-мясоедов... Впрочем, о ней – до другого раза. В. Дунаев 1.Доклад, читанный в Петроградском вегетарианском обществе
|




 ВАЖНО!
ВАЖНО!