 |
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 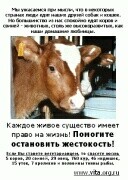
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 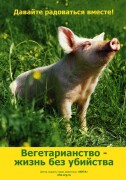
Формат jpg. 180Kb |
Вегетарианский вестник, 1904 г. Мысли биолога о вегетарианизме Академик кн. И. Р. Тарханов Приступая к ряду отдельных кратких заметок о вегетарианизме, считаем долгом, прежде всего, оговориться, что мы делаем это без всякой предвзятой мысли. При обсуждении этого важного вопроса будут приняты в расчет, как теоретические доводы, так и фактические данные, точно установленные. Как в той, так и в другой области учение о вегетарианизме может находить или оправдывающие его факты и соображения или, напротив, уменьшающие его доказательную силу. Задача проектированных здесь этюдов и сводится к беспристрастному, с точки зрения биолога, взвешиванию всех этих данных с целью выяснения того, насколько учение это должно считаться универсально обязательным, и если нет, то в каких случаях польза применения его может считаться, вне всякого сомнения. Ведь известно, что приверженцы вегетарианизма, представители которого в массах рассеяны уже по всему свету, исходят из разных точек зрения для оправдания своего учения. Во главе всего стоит принцип этического характера, по коему люди не в праве убивать животных для удовлетворения своего голода, раз для той же цели может служить все растительное царство. Исходя из благородного чувства сострадания к животным, подобно нам чувствующим и страдающим, вегетарианцы в силу чисто морального начала отрицают за человеком право лишать жизни животных, не причиняющих ему никакого вреда. Далее, учит вегетарианизм, плотоядное питание пагубно отражается как на душевных, так и на физических или телесных свойствах организма; в первом случае усиливается жестокость, возбуждает кровожадные инстинкты и поддерживает наклонность не только к внутренним кровожадным расправам, но и к международным войнам и т.д. Во втором случае, т.е. через пагубное действие свое на физику тела, вызывает разнообразные болезни, подрывает его физические силы и тем самым его жизнеспособность, вследствие чего ослабевает и устойчивость в труде и сокращается сама продолжительность жизни. Согласно со всем этим вегетарианизм выдвигает в свою защиту еще и всю область целебного действия растительного питания в борьбе с различными болезнями. Врачебное значение вегетарианизма служить, в особенности теперь, при популярности так называемых естественных способов лечения, усвоивших в большинстве случаев этот режим, одним из крупных оплотов вегетарианизма. Наконец, в пользу последнего выдвигают и экономическое значение его, т.е. сравнительную дешевизну продуктов растительного царства. Вот в общих чертах главные основы, на которых покоится вегетарианизм с научной точки зрения. Попробуем теперь в подробности разобрать последовательно каждое из этих положений с биологической точки зрения и осветить по возможности сильные и слабые стороны их. Редакция «Вегетарианского Вестника», насколько мне известно, преследует только одну цель – это выяснить беспристрастно, на почве научной сильные и слабые стороны вегетарианизма с точки зрения гуманитарной, биологической и врачебной, и поэтому проектированные здесь критические этюды как нельзя более должны отвечать задачам «Вегетарианского Вестника». Обсуждение таких вопросов не может не представлять в видах гуманности и здоровья крупного общественного интереса, и вот почему мы приветствуем от души появление в русской печати этого нового органа, широко открывающего свои столбцы для разбора всех pro и contra близкого его сердцу вопроса о вегетарианизме. Этические основы вегетарианства Одной из главных основ вегетарианства служит, как известно, чисто этический принцип, что невозможно поддерживать питание человека ценою жизни других животных, если только есть возможность достигнуть той же цели питанием продуктами растительного царства. Приверженцы вегетарианства, придерживающиеся этого этического начала, находят противоречивым нравственности человека убивать, уничтожать животную жизнь только ради собственного питания. Они справедливо доказывают, что весь животный мир, в особенности высшие представители позвоночного царства, так же чувствуют, так же страдают, во многих случаях также понимают, как и человек. И поэтому все насилие, сопряженное с убийством животных, предназначенных для корма людей, должны быть так же непозволительны, как и убийства между людьми. Исключением из правила могут служить, по мнению вегетарианцев, только животные, вредящие человеку, и уничтожение которых человеком является только мерой самозащиты. Нельзя оспаривать, что в этой мысли есть много чрезвычайно гуманного и в тоже время вполне отвечающего основным стремлениям природы – сохранять, лелеять и множить жизнь на земле. Действительно, в организации, в особенностях высших животных форм, как в анатомическом, так и в физиологическом отношении, наблюдается удивительная целесообразность, направленная к самосохранению жизни каждого отдельного индивидуума. Всякий натуралист ясно видит в животных организмах целую серию удивительнейших приспособлений, имеющих от природы цель: обеспечение жизни везде и всюду, и вдруг грубая рука человека разрушает все эти чудеснейшие механизмы для грубых целей своего пропитания. В этом акте человек как бы действует против закона природы – защищать и поддерживать везде жизнь. Не является ли поэтому человек, уничтожающий жизнь других животных для пропитания, преступником перед матерью-природой? Вопрос этот, конечно, достоин обсуждения, и мы взглянем на него, прежде всего с биологической точки зрения, а затем и с психологической. Спрашивается, могут ли вегетарианцы избегнуть упрека в насильственном уничтожении жизни, если они придерживаются строго вегетарианского режима. С общей биологической точки зрения между строением и составом растительных и животных клеток, из которых складываются животные организмы, не существует никаких существенных принципиальных разниц. Что касается организации растений и животных, то та и другая складываются их клеток, в которых деятельную и жизненную роль играют протоплазма клетки и ее ядро, притом и там и тут клеточная протоплазма служит главным местом того прижизненного разрушения или обмена веществ, которое лежит в основе функций или отправлений. Ядро же является главным фактором создания живого клеточного вещества, а через это – восстановления клеточных потерь. Кроме того доказано, что как там, так и тут в основе всех жизненных отправлений лежит химический обмен веществ, состоящий из двух порядков явлений: разрушения и создания живого вещества, причем разрушение лежит в основе возникновения функций, а создание в основе роста и поддержания целости живого вещества. Мало того, клетки и растительных и животных форм состоят из тех же основных химических продуктов: различных форм белковых веществ, жиров, углеводов, минеральных солей и воды, только распределенных по животным и растительным клеткам в различных количественных отношениях. Сам обмен веществ со стороны его качества протекает и тут и там в одном и том же направлении, давая в числе продуктов разрушения угольную кислоту, воду и разнообразные аммиачные соединения, содержащие азот. Газовый обмен растительных и животных клеток, т.е. так называемое тканевое дыхание в темноте протекает у тех и других совершенно одинаково, т.е. сопровождается поглощением кислорода клетками и выделением углекислоты. Видимое отступление от этого правила в растительном мире наблюдается только при действии света на зеленые части растений. Они при помощи световой энергии, действующей через хлорофилл, т.е. зеленую краску, пропитывающую растительные клетки, способны расщеплять усваиваемую ими из воздуха углекислоту на углерод, задерживаемый клеткой, и на кислород, отделяемый в окружающий воздух. Усвоенный углерод идет, конечно, на создание клеточного вещества. Процесс этот, свойственный исключительно зеленым частям растений, вовсе не исключает, однако, обратного процесса тканевого дыхания, о котором мы только что сказали. И этот процесс, господствуя вполне в темноте, не прекращается и при свете, только протекает в более слабой степени и маскируется противоположным явлением расщепления угольной кислоты, необходимого для создания клеточного вещества растительных клеток. Итак, и в обмен веществ, за исключением только этого последнего факта, между миром растений и животных существует полная аналогия. Аналогии в химическом составе растительных и животных клеток могут быть продолжены и дальше. Например, как в тех, так и в других путем жизненного процесса вырабатываются различные сложные соединения в форме лейцитина, имеющегося в таком обилии в мозговых клетках, церебрина, лютеина и различного рода алкалоидов, которые находят столь широкое применение в медицине. И в ядрах, как растительных, так и животных клеток мы находим так называемые нуклеины, т.е. фосфорсодержащие белковые вещества ит.д. Все это мы позволяем себе привести только с той целью, чтобы показать, как близки должны быть основные процессы обмена веществ в растительных и животных клетках, лежащие в основе жизненных функций. А если это так, то понятно, что между этими жизненными функциями, являющимися результатом обмена, не может существовать принципиальных разниц. С этой точки зрения нам должно казаться весьма естественным, что и растительные клетки, подобно животным, способны к росту, к размножению, что им присуща сила наследственности, что клетки растительные, подобно животным, обладают раздражительностью, т.е. способностью возбуждаться под влиянием внешних и внутренних раздражителей, и это возбуждение может выражаться либо химическим изменением живой протоплазмы, либо изменением формы, т.е. сократительностью, обуславливающей различные виды движений. Для примера возьмем листья мимозы, которые под влиянием малейшего прикосновения или сотрясения или под влиянием пропускания электрического тока приходят в движение, складываясь известным образом, или листья мухоловки (drosera rotundifolia), захлопывающиеся в момент прикосновения к ним мух и переваривающие выделяемым ими соком пойманных насекомых. Замечательно, что эта чувствительность, эта способность к движению растительных форм уничтожается на время при действии на них анестезирующих веществ, таких кК хлороформа, эфира и др. Затем, после выделения этих анестезирующих веществ, растения эти вновь приобретают первоначальную чувствительность и способность к движению. Листья многих акаций точно также обладают светочувствительностью и способностью к движению, что выражается особым изменением ими своего положения при свете и темноте. Наконец, так называемый сон растений на многих цветах выражается тем, что при приближении ночи чашелистики и лепестки закрываются и цветок представляется замкнутым вплоть до зари, до первых лучей солнца, заставляющих эти цветы вновь раскрыться. Особенно интересны так называемые явления гелиотропизма, выражающиеся тем, что листья многих растений поворачиваются всегда своей широкой поверхностью к свету. В некоторых случаях это стремление к свету выражается в удивительной форме. Так, например, прорастающие в темных подвалах картофелины испускают иногда ростки, которые растут и стремятся к светлой щели или светлому окошечку, проходя иногда расстояние в несколько аршин. Все это крайне напоминает также и стремление животных к свету, даже таких, у которых исключены полушария головного мозга. Конечно, все эти явления допустимы только при признании за разобранными нами растительными формами очень тонкой светочувствительности и способности к движению. За вьющимися растениями должна быть признана особая осязательная чувствительность, благодаря которой они, прикасаясь к обвиваемому ими столбу, этим самым прикосновением возбуждаются и через это направляют свой рост так, что обвивать жердь. В этих осязательных толчках они находят руководителя, направляющего их движение ит.д. В некоторых водяных растениях, таких, например, как в культивируемом в наших аквариумах valesneria spiralis можно наблюдать под микроскопом весьма деятельное движение клеточной протоплазмы с хлорофилловыми зернами, взвешенными в ней. Эта движущаяся внутриклеточная протоплазма крайне чувствительна к малейшему прикосновению иглой, к малейшему колебанию температуры, к анестезирующим веществам, т.е. к хлороформу, эфиру ит.д., к пропусканию электрического тока, причем эта внутриклеточная протоплазма крайне чувствительна ко всем этим влияниям, видоизменяемым ее движения, ускоряющим или задерживающим их до полной остановки. На таких объектах можно с очевидностью убедиться в высокой раздражительности и чувствительности клеточной протоплазмы, этой носительницы жизненных функций. Итак, жизнь с физико-химической точки зрения в растительных клеточных образованиях протекает в сущности так же, как и в животных образованиях. Первым так же, как и вторым присущи два основных жизненных свойства: раздражительность, сократительность, иначе говоря, чувствительность и движете. Добавляя это еще и указанными нами выше способностями растительных клеток к размножению и к наследственной передаче признаков от родичей к потомкам, мы в праве прежде всего сказать, что жизнь растеши с биологической точки зрения существенно не отличается от жизни животной, и что вегетарианец, допускающей для прокормления людей продукты растительного царства, все же не может избегнуть с научной точки зрения упрека в уничтожении жизни; но тут, конечно, возникает вопрос, что, хотя жизнь растеши и есть жизнь в основе своей, тем не менее, она не осложнена психизмом, т. е. миром чувств, ощущений, страданий, идей и т. д. и т. д., и что поэтому истребление растительных продуктов на питание человека не сопряжено с причинением разрушаемой жизни каких-либо страданий. Вправе ли мы, однако, при современном взгляде на явления жизни утверждать это категорично? И в самом деле, растения обладают раздражительностью, удивительной впечатлительностью к разнообразнейшим влияниям, в некоторых случаях даже способностью реагировать на эти впечатления внешним движением, т. е. давать отраженные акты, которыми так богата животная жизнь. В некоторых случаях растительные образования обнаруживают замечательное разнообразие движений к свету, теплу, кислороду и т. д. и т. д. Где же основание утверждать, что жизнь их не осложняется какими-нибудь психическими явлениями? Ведь о последних мы судим только но внешним проявлениям и в особенности по внешним движениям, и так как растительный образования лишены тех органов и аппаратов, игрой которых проявляется психическая жизнь животных, то мы и не вправе ожидать, чтобы психизм растений выражался в тех же внешних формах, какими он выражается в животном мир и у человека. Представим себе человека, отравленного до полного паралича, за исключением только дыхательных движений, американским стрельным ядом кураре. Он не в силах произвести ни малейшего движения ни языком, ни лицевыми мышцами, ни членами тела. Лицо его представляет неподвижную маску, он лишен речи, лишен жестов и мимики, и тем не менее внутри его течет деятельная жизнь мысли, чувств, волнений, страданий, вовсе не поражающих окружающих. Вправе ли мы заключить по этому внешнему неподвижному состоянию организма о том, что в нем нет ни следов сознания, ни следов какой бы то ни было психики? Конечно, нет. И клиническое наблюдение проф. Гамжи, при котором он должен был для устранения столбняка ввести одной больной кураре, вполне подтверждает нами сказанное. Эта больная во все время своего парализованного состояния испытывала целый ряд невыносимых страданий, мучений, целую бурную работу мысли, направленную к ее освобождению, как о том она заявила названному профессору после того, как она пришла в себя вследствие выделения яда из тела. Каждый из нас после этого вправе себя спросить: да имеем ли мы право отрицать в живых образованиях растительных или животных психизм только потому, что он не выражается какими-нибудь внешними реакциями? Знаменитый психофизик и психофизиолог Фехнер и признает поэтому, опираясь на все биологические данные, известную степень психизма и в мире растительных образований, а, следовательно, и им может быть и вероятнее всего присущ мир чувствований, а, следовательно, и страданий. Неовитализм наших дней уже по самой сущности своих взглядов на жизненные процессы должен также придерживаться этого воззрения. Ныне большинство биологов и в особенности Бунге, на основании биологического анализа и наблюдения поведения всего мира простейших одноклеточных животных, мира инфузорий, корненожек, амеб и т. д., не находят возможным объяснить жизненные проявления их иначе, как признанием за ними психизма, т. е. мира душевных явлений, несмотря на то, что в этом мельчайшем мире организмов, занимающих место между животным и растительным миром, нет и следов нервной системы; поэтому отсутствие последней в растительном мире не может служить препятствием признанию за ним известной доли психизма. Сказанным исчерпывается психологическая точка зрения на этические основы вегетарианизма. Мы видим, что, разрушая жизнь растительных форм для своего питания, мы не можем избежать упрека в том, что не причиняем при этом этим живым растительным организмам каких бы то ни было страданий. И остается только утешиться тем, что страдания эти, быть может, не так велики, не так ярки, как при уничтожении высших животных форм, обладающих специально развитыми органами психики, за которыми мы признаем более высокую сознательную чувствительность и боле ясное мышление и самосознание. Идеал вегетарианизма – не уничтожать жизни и не причинять тем страдания, достигнут в сущности только миром растений. Он питается только насчет неорганических неорганизованных и минеральных веществ природы. Он выстраивает только себя из неодушевленных элементов почвы, воды и воздуха и поэтому питается без причинения страдания кому бы то ни было. Достижение такого идеала недоступно, конечно, для всего животного Мира и человека в силу их естественной организации и человеку, как существу с высшим сознанием, приходится выбирать для своего питания те жизненные формы, уничтожение которых сопряжено, по его убеждению, с наименьшим количеством причиняемых страданий. По всем видимостям мир растений менее всего одарен психизмом, который все более и более ярко выражается при повышении по зоологической лестнице, начиная от самых простейших животных к высшим, наиболее сложным. Выбор, конечно, может быть один: из зол выбрать самое, по-видимому, меньшее и остановиться на растительном царстве. В этом, конечно, только этическое оправдание вегетарианизма.
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































