 |
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 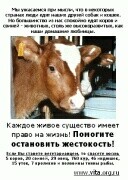
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 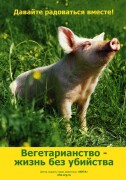
Формат jpg. 180Kb |
Проект "Виты" по восстановлению истории дореволюционного русского вегетарианства __________________________________________________________________
Вегетарианское
обозрение, Киев, 1912 г. ВО.1.2.3-4.5.7.1912 Красота жизни и мы Опыт философии вегетарианства Никто не избег или не избегнет любви, пока на земле будет красота и глаза, чтобы видеть ее. Лонгус Вступление Я не без колебания назвал эту статью "Опытом философии вегетарианства". Философия – вещь серьезная, и даже опыты в этой области требуют гораздо большего углубления в сущность анализируемого вопроса, чем то, которое я могу дать в предлагаемой здесь статье. Но мною руководит одно желание, высказать которое я считаю вполне уместным и своевременным. Характер вегетарианского движения и развитие вегетарианской идеи носят у нас в значительной степени разбросанный, бессистемный характер. С большим старанием и любовью разрабатываются различные частные вопросы по гигиене питания, по этике и эстетике вегетарианства, очень много внимания удаляется апологетике наших идей и пропаганде их основных принципов, но до сих пор совершенно, насколько я знаю, не было сделано попыток формулировать в полном, цельном и ясном виде философию вегетарианства. Между тем, эта задача является не менее (а, может
быть, даже и гораздо более) насущной, чем разработка теоретических
и практических деталей. Установить тесную духовную связь человека
с природой, проанализировать сущность взаимных отношений между
человеком и природой, осветить те, в высшей степени определенные
и ясные, но равнодушно оставляемые многими без внимания пути,
по которым человечество неуклонно, почти что в силу "исторической
необходимости" идет к усвоению вегетарианской идеи, наконец,
прочно и раз навсегда определить основной базис вегетарианства,
отграничить в нем главные положения от второстепенных выводов
и следствий, что так часто многие склонны сейчас смешивать – вот
проблема, разрешение которой должно быть поставлено в ближайшую
очередь. Вегетарианство должно перестать быть идеей. Оно должно
стать тем, чем оно есть на самом деле: миросозерцанием. Только
при этом условии оно сможет смело стать в ряды других общественных
течений нашего времени и держать свое знамя на одной с ними высоте. Дать маленький толчок в этом направлении, поставить несколько первых вех – вот та скромная задача, которой я руководился, приступая к писанию этой статьи. I. ..."Помню один тихий вечер, проведенный нами под открытым небом перед одним норвежским павильоном в местности, название которой я позабыл. На столе стояла свеча, которую мы убрали, так как летняя ночь давала достаточно света. Лицо Ибсена с мощным лбом и богатой шевелюрой сливалось с очаровательным видом на окружающую местность, волшебно освещенную. Так как потом стало немного темнее, то на его лице можно было видеть только блеск очков и движение губ. Он говорил, понизив голос, то и дело наклоняясь к своему стакану, фантазировал, шутил. Мы ели барашка, и я заметил: Так писал Георг Брандес о титане северной литературы,
Генрихе Ибсене, в статье, посвященной анализу его художественного
творчества. Тонкое чутье жизни привело норвежского писателя, быть может, незаметно для него самого, к одному из тех вопросов, около которых с особенной напряженностью бьется сейчас пульс человеческой мысли. Наше время, находящееся на рубеже двух столетий, характерно не одними только великими научными открытиями и переломами в области социальной. Оно носит на себе ясную печать психологического углубления и тяготеет к созданию в этой сфере новых ценностей, которым суждено открыть со временем новые горизонты жизни, загроможденные сейчас угрюмыми горами предрассудков. Живое существо, животное и даже растение, перестает быть в глазах человека вещью, грубым комком ткани, таким же мелким и не интересным, как булыжник, валяющийся при дороге. Наука, шаг за шагом, разоблачающая обманы кажущейся грубости и элементарности жизни, раскрыла и здесь ложь обычных человеческих представлений, подобно тому, как она раскрыла ложь солнечного луча, кажущегося однообразно белым, но на самом деле сплетенного из семи радужных, бесконечно различных цветов. Теперь, не стесняясь уже, говорят о "психологии животных", и находят в этих низших существах много интеллектуальных черт, родственных человеку. Обычаи, нравы и быт муравьев, мух, жуков, стрекоз изучаются в настоящее время с не меньшим интересом и с не меньшей добросовестностью, чем быт и привычки какого-нибудь малоизученного племени африканских дикарей, а за окаменелость, характерную для образа жизни какого-нибудь мегалозавра современные геологи дали бы не меньше, чем историки за кусок папируса, раскрывающего новые подробности исторического бытия далеко вглубь времен ушедших от нас народов. Мало того, мы знаем теперь о существовании чувств у растений и говорим о "любви среди растений" так же просто и естественно, как о любви среди людей. Мы незаметно углубляемся в мир то простых и грубых, то более сложных жизненных процессов, которые объединяют все органическое в природе. Мы постепенно постигаем сложную и многообразную душу мира и через это ближе становимся к тем формам жизни, мимо которых раньше проходили так равнодушно. Единство жизни – истина, уже достаточно утвержденная наукой. Но она не успела еще целиком улечься в нашем сознании и из нее не сделано всех необходимых выводов. Часть человечества – и далеко не самая большая – сумела после долгой внутренней борьбы отказаться от заблуждения, будто центром всего громадного механизма вселенной является земля с ее обитателями. Но, в подавляющем большинстве случаев, и она не обнаруживает еще склонности порвать с ложным представлением, согласно которому один только человек стоит в центре бытия и одна только его жизнь имеет определенную безусловную ценность, все же остальные жизни органически чужды ему и имеют гораздо меньшую ценность, если не совсем лишены ее. Именно поэтому чуткий человек ибсеновского замысла, тяготея душой к спасшему его жизнь барашку и непрестанно думая о том, как бы увидеть его, любить его законченной и полной любовью только тогда, когда находит в образе женщины, в более близких и более понятных формах человека. Любовь к живому теплится в его душе, тлеет, как тонкий конец веточки в костре, который не успели еще разжечь как следует, но вспыхнуть живым и цельным пламенем не может. Слишком большую груду лжи набросала жизнь на костер человеческой души, слишком глубоко въелась в сознание привычка все эгоистически обособлять, расщеплять, разъединять. Штирнеровский индивидуализм: "Я – мое все, я – Единственный", который кажется таким вздорным с точки зрения социальной, инстинктивно усваивается всеми по отношению к тому бесконечно обширному и разнообразному обществу, с которым нас, людей, тесно связывает единство органической жизни. II.
Подобно тому, как идеи Штирнера и Ницше явились
не более, как выражением запоздалой потребности выразить в определенных
и близких к современному пониманию формулах то смутное, что ощущали
в себе, не будучи в силах перелить в мысль и слово, наши доисторические
дикие предки, точно так же теперешняя неспособность "социально
мыслить" о природе есть только одна из атавистических теней,
случайно, но не надолго уцелевшая от грубого исторического прошлого.
Штирнеровское намерение человека: "попробую
основать свое дело на себе самом, ибо я – отрицание всего остального,
я составляю мое все, я – Единственный", это намерение звучит
сейчас таким же огромным диссонансом, каким звучало бы предложение:
"попробуем вернуть рабство, инквизицию, сжигание на кострах
и распятие на крестах, потому что мы"... и т.д. III. Ослабела связь, но не порвалась. Далее, напротив, несмотря на всю свою внутреннюю
слабость, никогда она, быть может, не проявлялась внешне так выпукло
и ярко, как в наше время, в эти несколько последних десятилетий,
с такой жестокой определенностью выдвинувших лозунг: Древний мир боготворил природу. Египтяне поклонялись быку Апису, индусы считали священными животными обезьян. Известен также культ священных деревьев. Но все это было больше преклонением, чем любовью. В природе древние видели только символ, материальный образ, за которым скрывалось нечто другое, более высокое, вмещавшееся в видимых формах природы только в силу необходимости, подобно тому, как тяготеющая к божеству душа человеческая в силу необходимости связана с слабым и ищущим греха телом. Мы смотрим на мир несколько иными глазами. Даже тяготея к мистицизму, мы не теряем все таки способности видеть природу просто как природу, а не как обширный иконостас, предназначенный к тому только, чтобы своим видимым величием напоминать о величии невидимого. Оттого мы полнее и совершеннее, чем древние, способны воспринимать красоту природы. Мы можем представить ее себе, хотя бы даже путем временного отвлечения, не как простой итог целого ряда предшествовавших причин, не как только "слепок", сделанный рукою неведомого Художника, а как нечто глубоко индивидуальное и самостоятельное, как своего рода "вещь в себе". И в свете этого нового, более непосредственного восприятия природы перед нами с особенной яркостью и свежестью встает красота сложного и текучего многообразия ее форм, оставляющая незаметно для нас глубокие следы в нашем сознании. Благодаря тому, что античный мир не умел воспринимать природу как нечто, хотя бы и в отвлечении, самостоятельное, его искусство почти не знало пейзажа. Если пейзаж и был, то только как фон, как декорация, служащая лишь для того, чтобы заполнить пустоту, остающуюся около бога, героя или просто человеческой фигуры. В искусстве нашего времени природа играет совсем другую роль. Она приобрела в нем такие же права гражданства, как и сам человек. Она живет совершенно самостоятельной, индивидуальной жизнью и говорит собственным языком, который мы уже хорошо научились понимать. Грусть плакучей ивы при дороге мы воспринимаем теперь с не меньшей чуткостью, чем тоску человеческой души. Пейзаж у нас не только играет видную роль в живописи, но начинает проникать даже в скульптуру, чего совершенно не знало античное искусство 1. С не меньшей яркостью сказывается это интимное приближение наше к природе и в области литературы. Дохристианская литература совершенно не знала (если не считать Эзопа) других героев, кроме богов, людей и великой, все обнимающей и всем повелевающей Мойры. Чувство родства с природой впервые, робко, начинает сказываться в средние века, хотя чувство это еще проникнуто духом религиозного мистицизма и таит в себе много элементов аналогии с прежним языческим пантеизмом, для которого природа была в гораздо большей степени формой, чем сущностью. До нас дошел, например, рассказ Хиоретти ди Сан Франческо об овце, преклонившей в храме, вместе с монахами, колена перед св. Франциском Ассизским, или повествование о том, как цикада, попавшая в руки св. Франциска продолжала под его ласковым поглаживанием петь свою песню, как и раньше. Эти, и подобные им, предания говорят о том, что внимание средневековых христиан к животному миру не было свободно от посторонних, отвлеченных соображений. Оно было направлено на него лишь постольку, поскольку это вызывалось стремлением утвердить принцип, что "всякое дыхание хвалит Господа". Природа, как индивидуальный организм почти еще не
существовала в сознании средневековой эпохи. Но в неясной дымке
мистически-условного восприятия ее уже таились и крепли зародыши
настоящей, глубокой любви к ней. Обе эти полосы тесно сплелись потом воедино, в то основное мироощущение, которое впоследствии нашло себе полное оправдание и прочную оболочку в науке, сделавшей его краеугольным камнем нарождающейся новой психологии. Камнем, которого долго не было видно на поверхности, но который не потерял от этого своего значения. Эпоха Возрождения – этот красивый эллинский источник, вылившийся из сумрачных недр христианской скалы – явилась как бы синтезом лучших тенденций античной философии с христианским самоуглублением. Она дала могучий толчок интересу к живой природе. Литература современной нам эпохи есть усиленное
и яркое отражение тех неуверенных и слабых огней, которые загорелись
несколько столетий тому назад от удара античного огнива о христианский
кремень. Но помимо произведений, посвященных специально природе, много ли вы найдете продуктов литературного творчества, в которых она не участвовала бы в равной степени с человеком? Или, где она не затрагивалась хотя бы косвенно? Можно без преувеличения сказать, что природа пронизывает насквозь всю современную мировую литературу, подобно тому, как вода пронизывает поры погруженной в нее губки. Природа стала нераздельной частью литературы и других видов искусства, так как она стала нераздельной частью нашей собственной души. Если мы, углубившись в дебри наших узко-человеческих вопросов, можем еще мыслить себя вне природы, то чувствовать себя вне природы, ощущать свою рознь с ней и оторванность от нее мы органически уже не можем. Если не умом, то инстинктом мы подошли вплотную к ней и слились с ней, сами того не замечая, в одно неразрывное целое, вткались в нее тысячами крепких нитей, сплели свою одинокую, маленькую, ушедшую в себя человеческую душу с той широкой и многообразной душой мира, от которой, было, оторвала ее борьба с неразгаданными призраками и силами. IV. Эдмонд Ростан, написавший своего символического "Шантеклера", не побоялся взять в качестве героев - петухов, кур, собак, фазанов, сов и других животных. Этот смелый шаг в области художественного творчества можно рассматривать как один из тех несознанных порывов к сближению с окружающим нас живым миром, какими так ярко характеризуется вся современная жизнь. Целью всякого художественного произведения, даже реальнейшего из реальных, является в конце концов красота. В одном случае это – красота величия, как у Данте, в другом – красота страдания, как у Достоевского, в третьем – просто красота безыскусственного и строгого воспроизведения, в полном соответствии с действительностью, деталей жизни. Всегда и везде – красота, являющаяся часто в общественном смысле только средством, но в сознании автора составляющая основную ценность и цель его творчества. Чем больше углубляется наше эстетическое чувство, тем все более и более широкие горизонты начинает оно охватывать. Жизнь – как звездное ночное небо. Чем пристальней всматриваемся мы в текучую сложность ее форм, тем все больше и больше находим новых красивых деталей, новых звезд и туманностей, увеличивающих общую яркость картины, совершенно независимо от того, насколько "звезда от звезды разнствует во славе"... Подобно тому, как микроскоп обнаруживает наличность жизни и движения там, где невооруженный глаз видит только мертвую неподвижность, углубленное созерцание жизни раскрывает сложные и увлекательные перспективы прекрасного там, где грубо-поверхностный взгляд ничего не может уловить, кроме "мелкости", "обыкновенности" и "неважности". Но широкое эстетическое чутье, позволяющее обнять одновременно красоту нескольких (если не всех) граней жизни, было и есть удел немногих. Поэтому всякая новая попытка расширить границы эстетических ценностей неизменно встречает на первых порах скрытый или явный отпор со стороны "массы", "публики", "большинства". Зарождение "народнических" тенденций в литературе и реализма в живописи, когда от описания графов и герцогинь и изображения условных, слащавых и вылизанных фигур начали переходить к жизни деревень и к тем грубым грязным краскам, которыми, с течением времени, отрешившись от старых традиций, начали писать армяки и нищенские лохмотья, — это зарождение новых эстетических принципов было встречено в свое время, вероятно, не меньшим шумом и шушуканьем, чем в наши дни появление ростановского "Шантеклера" или проникновение в литературу веяний модернизма. Против полноты и глубины анализа в произведениях, посвященных миру животных, можно, конечно, возразить очень многое. Но возражения эти нисколько не затронут самой сущности вопроса. Если в пьесе Ростана, как и в другом известном произведении аналогичного типа — "Рейнеке-Лис" Вольфганга Гете, герои-животные наделены еще слишком человеческой психологией и только внешне сохраняют свой couleur locale, будучи внутренне почти целиком связаны с миром страстей и интересов человеческих, — все же это нисколько не умаляет значения такого рода литературы. Здесь, как и везде, история идет своим обычным путем. Все новое и мало знакомое, к чему только ни подходил человек в различные эпохи своего исторического бытия, всегда носило на себе неизбежный отпечаток антропоморфизма. А природа, как самостоятельное и равноценное человеку целое, и есть именно это новое. Ощущения полноты и ценности ее жизни мы только начинаем еще связывать в одну определенную концепцию, расширяющую границы нашего миросозерцания до пределов, за которыми вопрос о жизни стоит уже лицом к лицу с вопросом простого существования. Человеку свойственно переносить, иногда сознательно,
чаще – бессознательно, свое личное "я" во все, что лежит
за пределами этого "я" и, быть может, во многих чертах
разнится от него. Переносить без всяких компромиссов, смягчений,
пренебрегая той простой истиной, что не всегда можно видеть тождество
там, где налицо есть только аналогия. Что это суженное и упрощенное проникновение в природу не является органическим свойством непрерывно углубляющейся и утончающейся человеческой психики, можно подтвердить не одним литературным примером. Прекрасный образец жизнерадостного языческого творчества, поэма о Дафнисе и Хлое, свидетельствует, что в ту эпоху, когда эллинское миросозерцание, павшее под ударами христианства, пыталось было воскреснуть в форме миросозерцания эллинистического, — тогда уже с необыкновенной глубиной и яркостью ощущалась слитность человеческой жизни с бытием многоликой живой природы. Перед новой религией отступили вглубь жизни Великий Пан и другие боги природы. Перестали быть реальными силами и утончились до значения символов. Но связь с природой не порвалась. И так как с падением эллинизма ушло из природы то огромное, что, наполняя ее, заслоняло всю ее сущность, то осталось и стало проявляться моментами, мигами – одно только ощущение ее жизни, единой, общей жизни, сковывающей тесно спаянными звеньями все, что под шатром небесным живет, чувствует и дышит. "Самая сильная часть поэмы, — пишет в своем предисловии к "Дафнису и Хлое" Д.С. Мережковский – та, в которой изображается новая, неведомая древним грекам любовь к природе. Впрочем, нельзя даже сказать, чтобы Дафнис и Хлоя любили природу в том смысле, в каком мы ее любим. Они с нею – одно. Козы и овцы, о которых влюбленные пастухи так нежно заботятся, за которых готовы умереть, принимают не меньшее участие в действии поэмы, чем люди. Козы и овцы прыгают от радости, когда Дафнису и Хлое весело, стоят, понуря голову, и не щиплют травы, когда им грустно, слушают их музыку и как будто понимают разумную жизнь"... "Здесь побеждена древнееврейская и древнегреческая гордыня, которая ставила человека вне мира животных, на высоте, как одинокого царя природы и полубога. Человек уже не презирает зверя, потому что вспоминает, что они оба – дети одной матери; он спускается ко всем живым тварям с благосклонным любопытством и в их ласковых, глубоких, лишенных мысли очах, в их бессознательной жизни находит вещие проблески и откровения"... Из литературы более близких к нам эпох можно указать на такие трогательные и глубокие поэмы красоты Единой жизни, как народные сказки. За очень, разве, небольшими исключениями, читая их, никогда не подумаешь, что участвующая в этих сказках наряду с человеком природа выведена в качестве сатиры на человеческую жизнь или представляет собою только образец элементарно-грубой антропоморфизации, лишенной всякой внутренней идеи. Все эти разговаривающие, думающие и чувствующие волки, медведи, северные олени, птицы, деревья фигурируют в сказках вовсе не для того, чтобы подчеркнуть в глазах читателя специфически человеческое свое содержание. Они просто живут общей с людьми и в то же время глубоко индивидуальной жизнью. Той жизнью, которую неясно и смутно еще, но уже с большой долей уверенности начинает ощущать наше сознание, освобождающееся от власти призраков и от болезненно-индивидуалистической отъединенности, идущее к радостному слиянию многообразных индивидуальных потоков в едином общем океане жизни. V. И разнообразные формы искусства, и многие виды специальных наук, и даже непримиримый противник природы, техника, на каждом шагу говорят нам о том, что человек – сын природы, а не враг ее, тесно слитая составная часть, а не чуждый осколок, брошенный в жизнь неведомой рукой для того, чтобы беспомощно биться своими острыми углами о стены тюрьмы, сложенный из живых существ. Но, быть может, мы не совсем правы по существу, останавливаясь так внимательно на высших интеллектуальных отражениях просыпающегося в человеке чувства родства с природой? Быть может, мы, впадая в ошибку, принимаем частное за общее, когда именами Лонгуса и Гете, Рихарда Гарнера и творцов народной сказки иллюстрируем процесс углубления человеческого восприятия жизни? Не являются ли эти первые провозвестники зарождения новой психологии просто теми исключительными "великими умами", которые, по выражению индийской пословицы, "как горные вершины, горят издалека", нисколько не обещая того, что в будущем все низменные равнины человеческой мысли поднимутся до их заоблачной высоты? Достаточно беглого взгляда на нашу обычную жизнь, чтобы никогда больше не бояться таких сомнений. Если мы, выросшие в известных культурных условиях, обладающие искусством, которое создает нам бледную иллюзию некоторой независимости от природы и даже превосходство над ней 2, можем находить иногда мерила красоты в произведениях человеческого творчества (сравнения с Венерой Милосской, "Моисеем" Микеланджело и т.д.), то не вкусившие еще этой иллюзии широкие массы видят перед собой один только настоящий первоисточник красоты, одну только художницу, творящую действительно самобытные, оригинальные произведения – природу. Из нее только берут они свои образы и сравнения, ее формы наполняюсь своим человеческим содержанием, ее дух воспринимают и ее характером окрашивают бесцветное полотно своей элементарно-простой, не дифференцированной жизни. В этом явлении сказывается не культурная слабость и беспомощность человека, а великая культурная сила природы. В народных массах, далеких от вершин современного искусства, нет еще вполне определившихся, хотя бы и примитивных эстетических принципов, как не было их у всего человечества в самых ранних утренних сумерках его исторического существования. Но если нет среди них эстетических принципов, то есть вес более и более сознаваемое ощущение великой красоты, разлитой в природе, предчувствие новых тайн, которые придут из глубины ее, и новых откровений, которыми завершатся эти тайны. Человек не из себя творит эту красоту внешнего мира. Или, вернее, не только из себя он творит ее. Субъективная сторона его ощущений играет лишь служебную, подчиненную роль в общем процессе эстетического восприятия жизни. Возьмите слепого от рождения и попробуйте воспитать в нем сознание красоты того мира, которого он не видит. Вы можете призвать на помощь его воображение все изобразительные силы человеческого слова, всю полноту и точность определений – и все-таки очарования темной для него области навсегда останутся ему чуждыми. Научная, так называемая физиологическая эстетика, не отрицая того факта, что эстетические представления являются одним, из свойств внутренней организации человека, склонна, однако, перенести центр тяжести этого вопроса в сторону положения, по которому природа сама в себе заключает известные эстетические ценности, влияющие определенным образом на человеческую психику. "Эстетические представления не только показывают субъективнее состояние нашей организации и характеризуют совершенство физиологического возбуждения, которое мы переживаем, но вместе с тем они дают нам объективное указание на то, что данная группа возбуждений и данный возбудитель обладают особого рода физическими качествами, наибольшим совершенством в сравнении с другими возбудителями. Этим эстетические представления приобретают новый характер настоящего объективного познавания природы 3". Красота, таким образом, есть основное, физическое свойство природы. И так как это свойство не оставалось и не остается без влияния на физическую же и связанную с ней психическую сторону организации человека, умножая с каждым поколением это влияние путем прогрессивно возрастающей наследственной передачи, то можно, совершенно не будучи пророком, предсказать одно: так как эстетическая оценка красот природы может только расширяться, но не суживаться, то должно настать, наконец, то время, когда гордый и ограниченно-самонадеянный антропоцентризм, тесно облегающий сейчас массовую человеческую психологию, превратится в жалкие, изношенные лохмотья. И вместо него человечество наденет на себя новую одежду радостного эллинистического слияния с творящей жизнь и красоту природой. VI. Но в этом углублении эстетического окружающего нас
мира – только одна сторона вопроса, и не самая главная. Единство жизни, провозглашенное наукой как биологический принцип, нашло себе соответствующий коррелятив в области психологической – в том интимном и глубоком уголке человеческой психики, в котором совершается сложная работа синтеза разнообразных впечатлений и ощущений и установка путем этого синтеза определенного отношения к миру. Ощущение красоты жизни – вот тот новый психологический
фактор, который почти что на наших глазах начал крепкой и заметной
нитью вплетаться в сложную ткань душевной жизни человечества,
являясь как бы живым внутренним содержанием тех внешних формул,
которые создала на развалинах устаревших миросозерцаний современная
научная мысль. Это – понятие, истинных размеров которого сейчас, на заре его расцвета, мы не можем пока обнять своей душой, начинающей уходить, но еще не ушедшей от пасмурных и тусклых влияний прошлого. Оно значительно шире и глубже того восприятия красоты, которое обусловливается мерилами "эстетики линий и форм". В значительной своей части оно соприкасается с этой эстетикой и даже тесно сплетается с ней. Но зато в очень многих других случаях отходит от нее в сторону и, идя двумя противоположными ветвями, замыкается в один широкий круг, в котором эстетика форм заключена, как остров в замкнутом пространстве моря: не находясь вне его, но и не исчерпывая собой его содержания. Красота жизни – это очередная проблема сегодняшнего
дня. Над ней неустанно работает коллективное человеческое сознание.
Работает пока еще тихо, в глубине, лишь небольшими ручейками пробиваясь
на поверхность мысли. Что же это такое, — красота жизни? И в чем видим
мы реальные печати ее бытия? VII. В одной из предыдущих глав мы говорили о "душе мира"... Это – не та мистическая душа, которую искал Оскар Уайльд, когда в Рэдингской тюрьме, потрясенный глубиной своего несчастия, он писал: — Я теперь сознаю, что за всей этой красотой (природы), кем бы она ни была утверждена, открывается какая-то душа, для которой различные образы и формы служат лишь проявлениями; и с этой душой я желал бы быть в гармонии 4. Еще менее это – метафизический в значительной степени, гилозоизм 5 Фуллье, пытавшийся на основании принципов, близких к кантовскому априоризму, доказать существование единой общей души, пронизывающей и одухотворяющей всю сложную систему мира, все ее составные части, до мельчайших материальных атомов включительно. Говоря о "душе мира" – мира не в целом,
а только в органических его формах – и о "внутренней сущности",
объединяющей видимое разнообразие внешних форм жизни в одно многостороннее
целое, мы имели в виду пока лишь то основное, элементарное понятие
жизни, которое дает биология. Понятие жизни, как комплекса физиологических
функций и ощущений, в связи, разумеется, с теми психическими явлениями,
которыми неизбежно сопровождается всякий биологический процесс. Задача эта гораздо скромнее. Мы хотим только произвести
маленький анализ общественно-психологического характера, с целью
показать, каким образом вегетарианство сделалось естественным
продуктом нашей интеллектуальной культуры и какую общественную
– в широком смысле этого слова – роль суждено ему сыграть в ряду
многих других явлений жизни. Чисто физиологическое ощущение своего бытия есть то основное, чем человек обладает, можно сказать, с самых первых ступеней своего существования. Независимо даже от вопроса о том, когда впервые пробудилось в нем определенное и ясное сознание своего "я", представление о себе, как об индивидуальной единице, ощущение это должно было неизменно сопутствовать ему уже в силу самого факта его существования. Если в обычных условиях, когда "здоровый организм
не сознает самого себя" он не чувствовал, что он живет, то
в условиях исключительных, выводящих из состояния равновесия,
он всегда должен был чувствовать это. Окруженный заколдованной цепью опасностей и тайн, доисторический человек должен был воспринимать внешний мир как нечто враждебное себе и противополагать себя ему. Из этой обособленности естественно вырос примитивный эгоцентрический индивидуализм, моралью которого еще задолго до Ницше была личная "воля к мощи". Но та же самая полная опасностей и загадок жизнь выдвинула перед человеком и проблему общественности. Отчужденность, замкнутость, погружение в самого себя должны были утратить свой острый характер. "Я" и "не я" оказались стоящими рядом, объединенные общностью личных интересов. Враждебное всему внешнему миру индивидуальное начало вынуждено было примириться, если не со всем миром, то, по крайней мере, с той его частью, органическая родственность которой была очевидной. Примирение это было, разумеется, лишь "вооруженным миром", и личное с общественным не один раз на протяжении человеческой истории вступали, да и сейчас еще вступают, в ожесточенную взаимную борьбу. Но – "где сталкиваются две тучи, там бывает молния", как говорит старинная испанская пословица. Антагонизм коллективного начала с индивидуалистическими тенденциями оказался тем ударом молота о наковальню, который выковал из первоначального смутно-инстинктивного ощущения жизни яркое и широкое сознание ее. Сознание это шло двумя путями, углублялось в двух разных направлениях. С одной стороны усложнялось и обогащалось все новыми и новыми деталями представление о размерах и формах личного бытия. С другой стороны опыт и развитие положительных знаний заставляли постепенно переносить некоторые черты этого представления на весь вообще живой мир, считавшийся отделенным от человека глубокою пропастью. По мере того, как росла гибкость мысли и накоплялся
опыт, по мере того, как разгадывались тайны природы и страшному
могуществу ее все успешнее и успешнее противопоставлялась изворотливая
изобретательность, человек начинал смотреть на внешний мир более
спокойными и доброжелательными глазами. Начинал замечать, что
многие жизненные процессы, совершающиеся вокруг него, в низших
сферах органической природы, очень сходны с теми, которые происходят
в нем самом. Таким образом, способность к аналогии и синтезу была уже, в сущности, первоначальной основой того отношения к природе, которое, пройдя через длинный путь сложного исторического развития, сформировалось в господствующий сейчас принцип биологического монизма. Так как психика человеческая ни на минуту не переставала усложняться, то эта непрерывно обостряющаяся восприимчивость человека к явлениям внешнего мира и, в тоже время, постоянное столкновение с этими явлениями сделали торжество монистического принципа неизбежным в области точного знания. Они же делают неизбежным это торжество и в другой области – области реальных отношений человека к природе. VIII. Необходимо отметить следующий характерный факт. В то время, как сознание, отражая жизнь, ушло далеко вперед и в лице биологической науки категорически признало принцип единства жизни, при разнообразии составляющих ее органических индивидуальностей, — главный импульс человеческого действования — ощущение, инстинкт вяло плетется позади и медлит принять эту истину с такой же широкой полнотой, с какой приняла ее наука. Вернее даже, он принял ее и, может быть, гораздо раньше сознания. Отсветы этого признания мы проследим еще в целом ряде явлений современной человеческой жизни. Но вся суть в том, что ощущение неразрывности с многообразною сложностью жизни не настолько напряженно в нас проявляется, чтобы стать основным элементом нашего миросозерцания и определить собою основной характер нашего отношения ко всему живому, что есть на земле. Строго говоря, ведь, если в сфере, касающейся только человека, положение "люби ближнего твоего, как самого себя" можно считать единственным "научным" (в широком смысле слова) базисом общественной жизни, то тоже самое положение должно было бы лечь в основу взаимных отношений между членами всего вообще живого мира. Но в том то и дело, что здесь это, как раз, очень мало заметно. Какими бы узкими рамками ни ограничивать понятие "ближний", животное и растительное царства с большим трудом найдут в нем себе место. Животные, даже дружественные нам и приносящие пользу, являются для нас скорее "дальними", чем "ближними", и притом такими "дальними", которым всякая наша благосклонность, всякое приближение сулят целый ряд роковых последствий. При всей широте нашего общего развития, при всех успехах морали (хотя бы теоретической), мы в отношении нашем к животному миру не сумели дойти еще не то что уж до христианских принципов, а даже до простой ветхозаветной морали, сводящейся к положению: "любите друзей ваших и ненавидьте врагов ваших". Мы до сих пор с большей, кажется, готовностью лишаем жизни те именно типы животного царства, которые меньше всего приносят нам вреда и, наоборот, дают максимум пользы. К счастью, однако, эта пропасть между инстинктом и сознанием не принадлежит к числу тех, которые никогда не заполняются. — Мы все рождаемся, — говорит Фуллье, — с врожденной любовью к психической и социальной красоте, так же, как с чувством физической красоты. Наследственное чувство красоты есть возобновление в нас ощущений, которые пройдены человечеством. Возрастающая общественность создает и возрастающее чувство сострадания 6. Если допустить, что это так, что чувство социальной – в самом широком, биологическом смысле этого слова – красоты живет в нас с самого момента нашего рождения, то почему отражениями этого чувства не наполнена сейчас вся наша жизнь? Почему мы не сумели еще дойти хотя бы до той переломной черты, на которой сознание вместе с инстинктом утверждает истину красоты и ценности "социальной", в большом смысле слова, жизни и направляет убийственную руку только в ту сторону, где они – ошибочно или правильно, это другой вопрос – видят враждебность и угрозу по отношению к себе? По мнению профессора Оршанского, статья которого цитировалась раньше, целый ряд фактов доказывает, что в историческом процессе развития "эстетики форм" определенные эстетические понятия и формулы слагаются и достигают крупных размеров в сознании человека гораздо позже, чем рождается в нем общее чувство красоты. Эстетическое восприятие, следовательно, зарождается сначала в форме скрытых, бессознательных душевных движений, на первых порах неизбежно слабых, неясных и противоречивых. И только потом, по прошествии иногда очень значительного времени, эти скрытые импульсы становятся настолько интенсивными и определенными, что сознанию представляется возможность найти для них соответствующие формулы. Тот же самый процесс происходит, по-видимому, и в области эстетики моральной. Той эстетики, содержанием которой являются не столько внешние формы, сколько интимные психические качества. Человечество все сильнее и сильнее начинает ощущать наличность в природе новых психических ценностей. Больше начинает чувствовать и понимать глубокую истину единства жизни и красоту образующих ее индивидуальностей. Новые этические прозрения бродят, тоскующие, в лабиринтах человеческого сознания и освещают мысль отблесками грядущих настроений. Но новая мораль еще не пришла. Смутные тени новой психологии не успели еще материализоваться, не успели целиком дойти до сознания и отлиться там в формы, соответствующие их внутреннему содержанию. Но пути истории – пути, с которых нет возврата. Ощущение интимной душевной связи с природой растет, и наряду с этим идет выработка более углубленного и расширенного миросозерцания – вегетарианского миросозерцания, как мы назвали бы его – которое так же неизбежно и естественно, как неизбежен и естественен процесс эволюции нашей психологии. Итак, красота жизни завоевывает себе место в сознании людей с неизбежностью рока, и красота эта воспринимается как некоторая ценность, которой нельзя не дорожить. Эту связь красоты с ценностью следует особенно подчеркнуть, хотя, к сожалению, здесь не придется остановиться на ней так внимательно, как этого хотелось бы. Крупные мыслители последних столетий с большой серьезностью и вдумчивостью останавливали свою мысль на этой связи. В оценке ее они, однако, значительно расходились друг с другом. В то время как Спенсер, разбираясь в соотношении между красотой и пользой (которою он обусловливал понятие ценности), находил возможным допустить частичный переход последней в первую, Кант, Гегель, Шиллер и другие, наоборот, противопоставляли красоту полезности и находили их взаимно исключающими друг друга. И в том, и в другом случае оба лагеря мыслителей оперировали не столько с ценностью красоты, сколько с ценностью красивых вещей. Мы не будем касаться здесь вопроса о том, поскольку все они правы в своих суждениях о взаимной связи между красотой и ценностью в области вещественной. Жизнь выдвинула другой вопрос, гораздо более, на наш взгляд, интересный. Это – вопрос о связи понятия ценности с психологическим содержанием понятия красоты. В наше время в общественной жизни с большой силой начинает сказываться фактор, который социология наших дней учитывает под именем "психологического подбора". Как и дарвиновский "естественный подбор",
он несомненно характеризуется притягательными элементами красоты. Будучи перенесено из области предметов и связанных с ними явлений на почву чисто психологическую, понятие красоты должно в значительной степени утратить свое материальное содержание. Вместе с тем, связанное с красотою понятие ценности неизбежно должно обособиться от прежнего понятия полезности, синонимом которого оно было. Это если не устраняет, то, все-таки, значительно ослабляет те соображения, которые давали Гегелю и Канту повод проводить резкое разграничение между красотой и ценностью. В области материальной, следовательно, "ценность" находится в той или иной связи с красотой не иначе, как будучи синонимом понятия "полезности". В области психической понятие ценности является в значительной степени свободным от тождественности с полезностью. Здесь оно имеет уже характер эмоциональный и совпадает непосредственно с понятием красоты, образуя единую в своей двойственности формулу:
IX. Итак, человек осветил огнями сознания все доступные уголки своего бытия и нашел, что в сложности этого бытия таится великая красота. Он постиг всю сложность своих восприятий внешнего
мира, всю глубину своих индивидуальных переживаний, всю яркую
многоцветность своих ощущений – и нашел, что жизнь его со всем
богатством ее оттенков есть красота, а потому и ценность. Так создался тот психологический сдвиг, который вызвал к жизни широкое, господствующее сейчас общественное течение, называющееся гуманизмом. — Человеческая жизнь есть ценность... Этот принцип гуманизма был тем робким солнечным
отражением, которое возвестило начальный момент яркого расцвета,
момент напряженного углубления и расширения естественных процессов,
сопровождающих общественную жизнь человека. Это было первым знаком, отметившим начавшееся утончение человеческой психологии, поворот ее в сторону большей углубленности, большей способности проникновения в сложность жизни. За этим шагом неизбежно должны были последовать
другие. Неизбежно, потому что в непрерывной текучести процессов
психологических, как и в исторических процессах, каждый толчок,
подобно брошенному в воду камню, дает целый ряд расходящихся концентрических
кругов, захватывающих в своем движении все более и более обширные
области, даже тогда, когда высота и сила поднятых волн, пройдя
некоторую кульминационную точку, начинает уменьшаться и ослабевать. И они последовали. Пока человек был слабым, пока он чувствовал себя утопающим в море жизни с ее опасностями и тайнами, ему вполне свойственно было смотреть на всякую органическую форму жизни либо как на враждебную стихию, которую нужно одолеть, либо как на соломинку, за которую можно ухватиться, с тем, чтобы равнодушно смять и швырнуть ее прочь после того, как она выполнила свое назначение. Но это состояние было лишь преходящим историческим явлением. Для человечества пришел наконец момент, который Э. Сэйер очень метко определил, назвавши моментом "проницаемости сознаний". Человек сумел, наконец, ощутить в глубине своего духа индивидуальные ценности живой природы, среди которой он непрерывно вращался, вначале ратоборствуя против нее, а затем переходя мало помалу к дружественным отношениям с ней. Случилось то, что поэт-философ Гюйо так тонко выразил в красивой строфе, поставленной здесь в эпиграфе 8. Углубляющийся инстинкт человека стал непосредственнее понимать красоту бытия и чувствования и притом на всех ступенях жизни, "соприкасаясь в самой глубине сознательной воли с основным мировым монизмом".
"Нельзя ненавидеть существо понятое нами"... Настает время, когда мы можем повторить эти слова, думая не о человеке, а о животном. Наступает время, когда господин жизни, инстинкт, ускоряет свое движение вперед и приближается к радостной встрече с разумом. Мы в самом деле, удивленные, находим сейчас частицу добра, которое мы любим, в звериных душах и в самих себе открываем черты, присущие им. Психологические перегородки утончаются. Несправедливо и болезненно обособленные сознания смешиваются. Аполлон, бог раздельности, грустный, завертывается в свой плащ и уходит, а на смену ему приходит Дионис, великий бог слитности, возвращающий миру тихую гармонию равновесия, — красоту, к которой стремится всякое движение. Osservate tutto!.. Песталоцци X. Если бы мы умели без предубеждения следовать мудрому совету Песталоцци о необходимости все наблюдать, все подвергать исследованию, мы не проходили бы равнодушно мимо того характерного явления, сущность которого мы наметили в общих чертах несколько раньше. Оно настолько распылено, такими мелкими атомами пронизывает все области нашего существования, что, не приглядевшись, его, пожалуй, не так легко заметить. Но тем не менее оно существует и стоит в каком-то странном противоречии со всем строем нашего обычного житейского мышления и с характером многих наших поступков. Словно оно не входит в состав господствующих элементов нашей психики, а действует скрыто, из каких-то неведомых тайников подсознания, как загадочная эманация какого-то психического радия, который еще не найден и надлежащим образом не исследован. Явление это – внимание и любовь ко всему живому. В обычной нашей жизни весь живой мир, стоящий вне рамок человеческого общества, играет роль простого товара. Он является предметом спроса и предложения. Различные его формы культивируются для практических целей или для тех же целей уничтожаются. Существуют специальные учреждения, где производятся опыты над повышением качеств известных пород животных и известных сортов растений. Существуют, наконец, особые "фабрики", где данные этих предварительных лабораторных опытов применяются в самых широких размерах в целях массового производства ради удовлетворения возрастающих капризов спроса 9. В обычной жизни словами "зверь", "зверство" пользуются для обозначения качеств, к которым нельзя относиться иначе, как с ужасом и отвращением. Выражение "жить растительной жизнью" имеет такой специфический смысл, что подвести под это определение чью-либо жизнь значит унизить ее до самой последней возможности. Если в области искусства из мира живой природы и черпается бесчисленное множество эпитетов и красок, символизирующих красоту и гармонию, то в обыденной жизни из этой же природы сплошь и рядом берутся уподобления и символы для всего отвратительного, жестокого, вызывающего злобу, презрение и ненависть, для всего самого низкого, что только знает человечество. Если смотреть на жизнь взглядом рассеянного туриста, если замечать в ней – как мы делаем это с вывесками на городских улицах – только то, что особенно пестро и крикливо и что слишком часто и назойливо бросается нам в глаза, может показаться и даже стать уверенностью, что индивидуалистическая обособленность человека от природы является условием sine qua non человеческого существования; что в обычных, повседневных условиях своей жизни человек, в лучшем случае, равнодушно жесток по отношению к природе, ценит ее только, как мертвую материальную ценность, а чаще даже явно враждебен ей, презирает ее и не чувствует себя связанным с ней какими бы то ни было узами. Вся жизнь человеческая, отраженная в кривом зеркале такого поверхностного анализа, может представиться не только непрерывной борьбой с природой, но и непрерывной тиранией над природой. Может показаться, что вся наша земля представляет и представляла собой не более, как обширную деспотию, странную пирамиду, расколотую надвое, в которой нет тесной спаянности между вершиной и основанием. Что органическая природа – это живой конгломерат, в котором две различных части, разделенных непереходимыми границами: многоликий и жестокий "царь природы", как бы вне мира стоящий, замкнутый и гордый, чуждый миру и объявивший непримиримую войну ему, и все остальное – царство его, пыль, которую он попирает, или мертвый золотой слиток, который он жжет на огне и подвергает ударам молота, чтобы с насмешкой и злорадством выковать себе корону. Но стоит отнестись к жизни хоть немного внимательнее,
и иллюзия полной разъединенности падет сама собою. Обратимся поэтому к фактам более общего характера. К фактам, составляющим не праздничную, а будничную сторону жизни, сделавшимся для нас настолько обычными и естественными, что мы часто проходим мимо них не только не удивляясь, но даже не останавливаясь, не замечая их. Таких фактов очень много. Но мы отметим только некоторые из них, наиболее характерные. XI. Подчиненные общему закону последовательности, конкретные
случаи углубленно-внимательного отношения к живому миру обусловливались
вначале соображениями простой выгоды, соображениями определенной
материальной полезности. Но это – только робкие намеки на действительную живую связь с природой. Несколько более реальное приближение к ощущению этой связи представляет существование так называемых "обществ покровительства животным", где, по крайней мере, равноценным, а часто и преобладающим мотивом деятельности является внимательно-гуманное отношение к животной психике, признание за ней известной равнозначимости с психикой человеческой. Недаром у англичан самое слово "гуманитарианизм" приняло значение сострадательного отношения именно к животным. Немногим, может быть, известно, что эти обиходные случаи сближения с органическим миром, в смысле признания за ним психической равнозначимости с человеком, не только проявляются в виде практической деятельности разных обществ покровительства животным и других сходных по целям организаций, но имеют и свою идеологию. Существует целый ряд трактатов, уделяющих много места вопросу о "праве животных на жизнь". Из них назовем здесь труд Пэли, "Основы нравственной и политической философии", а из позднейших работ – "Права животных" Е.Б. Никольсона и "Животные и их господа" Артура Гельнса. Последние два произведения, как видно из названий, посвящены специально вопросу об отношении человека к животному миру и защите права животных на существование. Отзвуками этих разрозненных, но все же достаточно заметных и веских тенденций к сближению с природой явились многочисленные официальные законодательные акты, воспрещающие всякого рода жестокие развлечения, сопряженные с мучением животных, вроде травли быков и медведей, петушиных боев и т.д. За последнее время в некоторых культурных европейских странах появился ряд новых законодательных мер, обусловленных совершенно странной на наш взгляд заботливостью об удобствах отдельных представителей животного мира. Так как птицы часто разбиваются насмерть, налетая на телеграфные проволоки, которые им трудно заметить издали, то, чтобы предотвратить эту бесполезную гибель множества пернатых, английское правительство постановило, например, вешать на телеграфные проволоки широкие металлические пластинки, чтобы птица, издалека увидя их, могла взять свой курс выше или ниже и спасти свою жизнь. Инициативу издания такого рода законов впервые взяла на себя в начале XIX-го века Англия. Одним из позднейших по времени отголосков того ощущения родственности с природой, которое сказывается в повседневной практической жизни, является возникновение в разных странах Европы, главным образом в той же Англии, особых ассоциаций санитарных реформаторов, которые озабочены введением в употребление наименее мучительных способов убийства животных на городских бойнях, мотивируя свои задачи соображениями гуманного характера. Странная половинчатая гуманность... Но она, все же, показывает, что в живом товаре, эксплуатировавшемся до сих пор с самой бесцеремонной жестокостью, человек начинает понемногу замечать нечто новое, какую-то смутную психическую самобытность, которой он раньше не видел и которая заставляет его чувствовать в животном глубокую, не вполне еще осознанную, но родственную ему красоту бытия, заставляет стыдиться той примитивно грубой оценки, с какой он подходил раньше к окружающей его жизни живого мира. Стыд этот, правда, чисто еще формальный, касающийся
лишь "приемов", а не сущности, но он – первая стадия
определенной психологической эволюции, обреченной естественными
условиями на неизбежное дальнейшее углубление. Он – зародыш той
новой морали, процесс образования которой идет рядом с процессом
изменения отношений человека к окружающему его миру. XII. Все это можно считать, пожалуй, мелочами и можно относиться к ним не особенно серьезно, хотя именно из мелочей слагается все характерное в нашей жизни. Но есть одна область в нашей повседневной жизни,
где отречение наше от холодного равнодушия к жизни живого мира,
признание его равноценности нам сказывается с невероятной выразительностью
и силой. В наши дни и семья, и, в очень значительной степени, школа, вольно или невольно, но базируют моральную сторону воспитания подрастающих поколений почти целиком на идее равноценности растительного и животного миров с человеком. В семье детям не устают в настоящее время внушать, что нельзя мучить животных, потому что они так же чувствуют боль и так же понимают и ценят ласку, как и человек. В школе – я имею в виду, разумеется, не наши, русские, школы, а рационально поставленные западноевропейские – тех же детей заинтересовывают скрытыми жизненными процессами растительного царства и приучают их смотреть на природу серьезно и с уважением. Строгий утилитаризм воспитательных методов, недавно еще бывший чуть не единственным основанием педагогики, теперь все больше и больше уходит, как из семейной сферы, так и из школьных стен. Гуманитарные влияния (в смысле английского "гуманитарианизма") уже в очень значительной степени насыщают собою ту атмосферу, в которой воспитывается современное юношество. Трудно найти сейчас такую семью, в которой родители поощряли бы развитие в своих детях жестоких наклонностей но отношению к животным и растениям, – даже если, что можно встретить нередко, родители эти вообще с иронией относятся к "сентиментальничанью" с живым миром. Что касается школы, то она нисколько не отстает в этом отношении от семьи, а иногда идет даже и дальше ее. На Западе, например, редко можно встретить школу, в которой не было бы одной (а то и нескольких сразу) организации, связывающей молодежь с природой крепкими нитями любви и уважения к жизни всего живущего. Так называемые "майские союзы" школьников и "кружки любителей природы" имеют там характер не случайных предприятий, а специального педагогического метода, применяемого планомерно, последовательно и в широких размерах. Литература для детей и юношества, на которой воспитывается молодежь всех возрастов и общественных классов, носит еще более яркую гуманитарную окраску. Здесь уже все решительно направлено к тому, чтобы закрепить железными звеньями любви то естественное чувство близости, которое на первых порах сознательной жизни связывает ребенка с окружающим его живым миром. Если школа приближает ребенка к пониманию жизни живого мира с чисто формальной, описательной стороны, то литература вводит его непосредственно в самую психологию всех форм органической жизни, стоящих ниже человека, раскрывает эмоциональную сторону их бытия, путем параллелей и сравнений сближает психологию человеческую с животной и подчеркивает образно и ярко ту основную научную истину, которую мы так часто склонны забывать, истину, что нет пропасти между жизнью в человеке и жизнью вне человека, что все живое родственно друг другу и управляется одним и тем же жизненным процессом, проявляющимся лишь в различных формах, соответственно различным степеням развития. Если сказки развивают в детях воображение и обогащают фантазию, если романы Жуля Верна и Майн Рида дают незаметно познания по географии и этнографии, то рассказы Томпсон-Сетона, Киплинга, Лонга, Эвальда, Робертса, Бресса и многих других с не меньшей глубиной и силой действуют на детскую психологию в смысле устранения из сознания мнимой перегородки, отделяющей человека от всего остального мира, подготовляя почву для той окончательной взаимной "проницаемости сознаний", о которой так проникновенно говорил Гюйо. Через посредство школьной педагогики и педагогической литературы "душа природы" начинает становиться все более и более близкой человеческой душе. Каждое новое поколение переступает за порог юности с более утонченной психологией и с большей чуткостью к красотам жизни, чем предыдущее. Каждое новое поколение осуществляет собою новую стадию в отношениях человека к природе и создает новый психологический сдвиг в сторону их взаимного слияния. Этот процесс – один из тех медленных и грузных исторических процессов, избежать которых или заставить свернуть с намеченного пути не поможет никакая сила. Биологический монизм не игра красок солнечного заката и не обманчивый призрак осенней ночи. Он явился не плодом воображения и случайной прихоти, а возник из действительности жизни. И, раз явившись в сознании немногих, как утверждение некоторого реального закона, он неизбежно должен войти в сознание всех. Монизм биологический должен стать не только законом нашего сознания, но и законом нашего поведения, наших отношений. Другими словами, он должен стать также монизмом психологическим. И история свидетельствует, что эволюция человечества идет в этом именно направлении. XIII.
Плодом этого противоречия и в то же время средством к его устранению явилось вегетарианство, как учение, поставившее себе определенные моральные задачи. Вегетарианство не только вытекло, как и всякая мораль, из условий реальной действительности. О нем можно сказать гораздо больше. Можно сказать, что вряд ли какая-либо другая система морали заслуживает названия "научной морали" в такой степени, в какой заслуживает его вегетарианство. Дело в том, что хотя моральные задачи вегетарианства возникли как результат требований усложнившейся и ставшей более чуткою человеческой психологии, однако этой позднейшей стадии предшествовала другая, отмеченная печатью не внутреннего ощущения, а внешнего наблюдения и опыта. Прежде чем придти к чувству протеста против несправедливого отношения к живому миру, нужно было придти к сознанию своего единства с этим живым миром. Нужно было найти нечто такое, что смогло бы возвести инстинктивное ощущение на степень ясного сознания. Таким посредником между инстинктом и сознанием явились – душа всякой науки – наблюдение и опыт. Человек, который умел, подобно Дафнису и Хлое, жить одной жизнью с животными, должен был сначала научиться понимать животных, найти в них то общее психически и физически, что связывало его с ними в одну семью, изучить их качества и свойства – и только после этого его жизнь могла сделаться естественной составной частью их жизни. Это был уже зародыш той самой науки, которая, развиваясь и усложняясь с течением времени, приобретая все большую и большую точность методов, пришла в биологии к эволюционной теории Дарвина. Можно сказать с уверенностью, что без этого предварительного научного опыта существование вегетарианства было бы совершенно невозможно. Однако наблюдение и опыт, являясь здесь условиями необходимыми, не являются в то же время единственными. Люди эллинистического периода, например, спокойно могли жить одной жизнью с животными, относясь к ним внимательно и ценя их – и в то же самое время не создавая по отношению к ним никакой морали, которая приводила бы сознание в гармонию с действительностью, т.е. заставляла бы это сознание осуществляться в некоторых практических формах, в виде, например, отказа от убийства животных. Научного опыта достаточно было, чтобы привести в согласие инстинкт с сознанием. Для того же, чтобы согласить сознание с действительностью, нужен был новый вспомогательный фактор. Этим фактором явилась мораль. Та мораль любовного отношения к жизни живого мира, которую мы с полным основанием можем назвать вегетарианскою. XIV. Перейдем теперь к заключительным выводам из всего, что было сказано до сих пор. Спросим себя, что же такое вегетарианство? Каково его внутреннее содержание? Каковы его истинные задачи и цели и какова роль его в ряду тех многочисленных и разнообразных явлений жизни, которые нас окружают? На основании тех соображений, которые приведены
были в этой статье, мы должны будем ответить следующим образом. Со стороны исторической вегетарианство есть система
морали, система нравственных правил, вытекающая из требований
усложняющейся человеческой психологии и направленная к тому, чтобы
добытые через познание мира сознанием результаты привести в согласие
с действительностью жизни, т.е. устранить из жизни все те формы
отношений между человеком и окружающим его миром, которые стоят
в противоречии с новыми истинами, открытыми непрерывно развивающимся
и обогащающимся сознанием. В этом смысле вегетарианство является
ничем иным, как естественным продолжением традиций гуманизма общественного,
дальнейшим расширением принципа ценности жизни, который в истории
человеческого развития идет расширяющимися концентрическими кругами
от личности через семью, род, племя, нацию, государство, человечество
– и теперь коснулся уже новых областей одушевленного бытия, лежащих
за пределами человеческого общества. Эта сторона – общественная. Исходя из того положения, что вегетарианство является стремлением распространить принципы человеческого гуманизма на весь живой мир и сопоставляя главные элементы вегетарианского миросозерцания с теми элементами гуманистического миросозерцания, которые направлены на разрушение старых устоев жизни и на создание новых форм человеческих отношений, мы берем на себя смелость думать, что между вопросами переустройства общественных форм и вегетарианством существует тесная связь. И связь эта такова, что вегетарианство является основою той грядущей новой общественной психологии, которой суждено будет заполнить со временем новые формы общественности. При чем разумеется, что это будет не вегетарианство наших дней, неясное, запутанное и только лишь начинающее определять себя, а вегетарианство иного типа, приведенное в цельную и стройную философскую систему и связанное неразрывными нитями со всеми наиболее жизненными явлениями действительности. XV. Итак, самое главное в вегетарианстве сознание красоты жизни и практическое приведение этого сознания к гармонии с действительностью. Основа вегетарианства оказывается, таким образом, чисто психологической. И все, что находится вне этой основы, должно быть признано не более, как выводом, следствием, может быть и важным само по себе, но все же имеющим производный и, следовательно, второстепенный характер. Таким второстепенным следствием вегетарианского
мироощущения должен считаться отказ от мясного питания, составляющий
один из важнейших пунктов практического вегетарианства. Отказ от мяса есть только внешний признак вегетарианства, внутреннее содержание которого гораздо глубже и значительнее. Нужно признать, что вегетарианство, как факт историко-психологический, гораздо шире этого своего отличительного признака. Нужно допустить, что в то время, как, с одной стороны, вегетарианцы, практикующие безубойное питание по соображениям исключительно гигиеническим, стоят довольно далеко от основного гуманитарного содержания вегетарианства, лица, формально не принадлежащие к числу вегетарианцев и питающиеся мясом, но уже вступившие в полосу деятельной любви ко всему живому, могут оказаться гораздо ближе к истинному вегетарианству с его историческими задачами. Понятое и освещенное в этом смысле вегетарианство
должно оказаться гораздо более жизненным и общественно ценным,
чем вегетарианство прежних дней, определявшееся не тем, что человек
чувствует и делает, а тем, что он ест. Вопрос о безубойном питании был до сих пор единственной основой вегетарианства потому, что он в свое время был самым спорным из всех положений, выдвигавшихся сторонниками вегетарианства. Теперь в таком одностороннем сосредоточении внимания на вопросах питания нет больше надобности. Теперь существует уже достаточно богатая и серьезно обоснованная научная литература, оправдывающая гигиенические достоинства безубойного питания, часть принципов, положенных в основу этого питания, принята даже принципиальными противниками вегетарианства, особенно с тех пор, как научные исследования поколебали либиховскую теорию физиологической роли белков, и, во всяком случае, споры в этой области могут вестись теперь уже гораздо спокойнее и беспристрастнее, чем раньше. Пора поэтому трезвее определить место, занимаемое вопросом "что нам есть?" в общей системе вегетарианского миросозерцания и постараться укрепиться в сознании, что вегетарианство есть в гораздо большей степени проблема психологическая и культурная, чем гигиеническая. Это необходимо потому, что именно этим определится жизнеспособность и действительная общественная ценность вегетарианской идеи. XVI. У Артура Шнитцлера есть прелестная сказка, озаглавленная: В одно раннее утро, когда небо было голубое и воздух
дышал ароматами, шел юноша навстречу манившим его горам. Свободно
и смело шел он уже несколько часов по ровным полям, как вдруг
у одной лесной опушки, непонятно откуда, где-то близко и в то
же время издали, прозвучал чей-то голос: Юноша в смятении остановился, оглянулся во все стороны, и так как нигде не было видно ни одного живого существа, то он понял, что это был голос духа. Но отважное молодое сердце возмутилось против повиновения темному голосу, и юноша, чуть-чуть только умерив шаг, смело пошел вперед, напряженно оглядываясь вокруг, чтобы вовремя выследить неведомого врага, изрекшего предостережение. Никто не встретился по дороге – и юноша вскоре невредимо вышел из леса под открытое небо. Юноша присел отдохнуть, и глаза его устремились
мимо обширного луга вдаль, на горы, конечную цель его пути. Гордость юноши не позволила ему послушаться и этого нового предостережения. Он даже улыбнулся над этим пустословием, хвастливо притязавшим на таинственный смысл, и поспешил вперед. Был уже вечер, когда он остановился перед скалистой
стеной, на которую решил взобраться. Но только что нога его ступила
на камень, снова откуда-то близко и в то же время издали донесся
непонятный голос, говоривший грознее прежнего: Тогда юноша громко расхохотался и спокойно продолжал свой путь. Взойдя на вершину, он радостно воскликнул: Тогда из отдаленнейших скал послышалось точно шум
грозы: — Да, если это так понять – сказал юноша – то я виноват, сто раз, тысячу раз виноват, так же, как и все смертные, под небрежной ногою которых ежеминутно гибнут, без дурного умысла с их стороны, бесчисленные множества маленьких живых созданий. — Но ты был предупрежден, отвечал голос. — Как можешь ты знать, для чего был предназначен именно этот червь в бесконечном течении жизни и творчества? ...Сказка кончается гибелью юноши.
До самого последнего времени ему именно казалась ничтожной жизнь, о радостях и страданиях которой он не знал ничего или знал очень мало. Но границы научного исследования психологии за последнее время раздвинулись настолько значительно, что охватили не одного человека, но также и его ближайших собратий из царства животных. Теперь радости и страдания животного мира не так уж чужды и непонятны, как раньше. Мы уже не стыдимся находить в них самих себя, и оттого нам теперь с каждым разом становится все более и более слышным тот предупреждающий голос нашего духа, который как бы из глубины всей живой природы, говорит словами вегетарианской морали: — Не будь равнодушным к ценностям живой жизни, если не хочешь, чтобы каждый твой шаг был сознательным убийством! XVII. В лице вегетарианства растет и крепнет "предостережение" против разлада сознания, утверждающего единство и ценность всего живого, с действительностью повседневной жизни, отрицающей эту ценность и это единство. Предостережение это не приходит извне, а рождается
внутри, из самых сокровенных глубин человеческого духа. Вегетарианское восприятие жизни является в психологическом смысле такой же неотвратимой "исторической необходимостью", какой в области общественного труда, например, является переход от индивидуалистической монополизации к социализации. Хочет или не хочет этого человечество, но оно рано
или поздно должно будет придти к вегетарианскому миропониманию,
потому что развитие его психологии идет именно в этом, а не в
каком либо другом направлении. Полная неуверенности, страхов и враждебностей ночь кончилась. День уже наступил. Вершины гор уже освещены солнцем и новые семена пробуждаются на них к новой жизни. Пусть в долинах и у подножья гор лежат еще глубокие тени. Чем выше будет подниматься солнце, тем чернее и гуще будут становиться эти тени. От них будет веять в лицо еще большей злобой и холодом. Но они станут меньше. Они будут таять, как утренние туманы под лучами солнца – и настанет, наконец, момент, когда придется искать их следов, чтобы удостовериться в том, что они были. Тогда красота всей жизни живого мира будет обнята человеческим сердцем, насколько это ему доступно, и мы станем наконец лицом к лицу с Природой, от которой мы так часто отвращаем сейчас боязливые и недоумевающие, свои испуганные лики. Саратов С. Полтавский
1 - Как например, можно указать на некоторые мотивы в скульптурном
творчестве К. Изенберга. _____________________________________________________________________________________________________
Сохранить Вегетарианское Обозрение, Киев, 1912 г. в формате doc (zip. 370Kb)
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































