 |
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 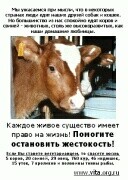
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 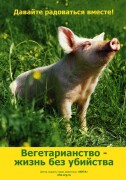
Формат jpg. 180Kb |
|
Проект "Виты" по восстановлению истории дореволюционного русского вегетарианства __________________________________________________________________
Вегетарианское обозрение, Киев, 1912 г. ВО.6.1912 Толстовство в жизни51 Мне пришлось побывать этим летом в двух толстовских колониях. Для читателя, который относится к толстовским колониям, как к утопическим затеям, замечу с самого начала, что заговорил я о них совсем не потому, что вижу в "опрощении" выход из современного социального тупика. Но думаю, что раз в наше скептическое время находятся люди, которые уходят из условий, так называемой, культурной жизни и поселяются в деревне, в глуши, и работают тяжелую крестьянскую работу, то независимо от вопроса, чем такой образ действий может окончиться, это интересно просто как факт. Первою из посещенных мною колоний была община, приютившаяся в 15 верстах от станции Митрофановки, юго-восточных железных дорог, в имении Елизаветы Ивановны Чертковой. Владелица имения ничего общего с толстовством не имеет и ему не сочувствует. Но это просто добрая женщина, готовая помочь всем, кто ищет хорошей жизни в труде и простоте. Поэтому ее сыну, другу Л.Н. Толстого и хранителю его литературного наследства (я говорю о Вл. Григ. Черткове), легко было убедить ее предоставить имение в 500 десятин под земледельческую трудовую артель для некоторых его единомышленников. 22-го февраля 1911 г. в Петербурге между артельщиками и владелицей имения состоялся договор, оформленный по всем правилам закона (на основании статей 1528-1531 и 2198 тома X ч. I свода законов гражданских) и заключающийся по существу в следующем: 1) На всей заарендованной земле устраивается одно общее хозяйство всей артели с общей обработкой земли, предоставляя в отдельное пользование только усадебные участки в размере одной десятины на каждую семью для устройства жилых и хозяйственных построек, посадок, огородов и т.п., не принадлежащих артели. 2) Весь скот, лошади, земледельческие орудия и машины, постройки на артельном дворе и вообще все хозяйство и артельное имущество составляет собственность всей артели. 3) Для начала дела каждый из членов артели должен внести в кассу артели денежный пай в размере 50 рублей. Если же кто-либо из членов не будет в состоянии внести свой пай одновременно, то на нем остается долг, который должен быть уплачен в кассу по частям в определенные сроки по соглашению с остальными членами артели. 4) Весь урожай артельного посева свозится в один артельный двор и по окончании молотьбы зерно распределяется следующим образом: а) оставляется на посев; б) на уплату артельных долгов; в) затем отчисляется одна десятая часть в основной капитал, предназначенный для приобретения земли в общее владение; г) остаток делится на две половины, из которых первая распределяется между членами артели по числу рабочих душ (полных рабочих и полурабочих, считая полурабочими между 12 и 17 годами), а вторая половина распределяется между всеми участниками артели по числу едоков без различия пола и возраста. 5) Все работы на артельном дворе: но уходу за скотом, лошадьми и по охране имущества производятся по дежурству по очереди или по особому соглашению в распределении между собой обязанностей. Во всех же полевых работах все члены артели участвуют на равных основаниях. 6) Для руководства в хозяйстве и в ходе работ выбирается староста; для заведывания кассой – кассир, а для ведения записей, счетоводства и отчетности – секретарь артели. 7) Нарушение нравственного поведения, употребление спиртных напитков, куренье табаку, картежная игра и грубое обращение ни в каком случае не допускаются. 8) За прогульные дни без уважительной причины при разделе прибыли вычитывается плата в размере однодневного заработка зимой, двухдневного – весной и осенью и четырехдневного – летом. 9) В случае какого-либо несчастья с членами артели или в их семье (болезнь, смерть, пожар и пр.), артель должна помогать им чем может и за пропущенные дни никакого вычета из его части не делать. 10) Артель может принять к себе в товарищи еще новых членов на равных условиях. 11) В случае желания выйти из состава артели кого-либо из членов, ему возвращается его членский взнос и уплачивается следуемая ему часть годовой прибыли в конце хозяйственного года, к 1 ноября. 12) Все могущие возникнуть недоразумения и несогласия между членами артели должны разрешаться товарищеским постановлением всей артели или выбранными уполномоченными. 13) За нарушение договора после предупреждения и за упорное неподчинение общим постановлениям артель может исключить из числа своего состава такого члена, вернув ему денежный взнос и уплатив за работу сколько ему придется годовой прибыли. 14) Постройки на отдельных усадебных участках, возведенные на свой личный счет, считаются личной собственностью, но при уходе члена остаются в неприкосновенном своем виде за артелью, за уплату их действительной стоимости, объявленной при их возведении, и могут быть переданы на условиях уплаты по соглашению вновь прибывшему члену на место уходящего. Как видит читатель из приведенных здесь существенных пунктов договора, только один подчеркнутый мною 7-й пункт имеет некоторый специфический толстовский привкус. Все прочие пункты приемлемы для всех желающих заняться земледельческим трудом на общинных началах. Действительно, я нашел в Ржевске (так называется имение E.И. Чертковой), кроме толстовцев, целый ряд лиц, ничего общего с толстовством не имеющих. Есть там сектанты-баптисты; есть последователи Александра Добролюбова, мистика и подвижника, во многом несогласного с Толстым; есть разочаровавшиеся в культуре интеллигенты, нашедшие душевный покой в новых для них условиях жизни; есть два-три последователя Вл. Соловьева, есть, наконец, обыкновенные православные люди, крестьяне, ходящие из Ржевска в ближайшую церковь и Толстого нисколько не почитающие. К юридической части приведенного выше договора прибавлена в оригинале еще и моральная часть, составленная В.Г. Чертковым и устанавливающая те толстовские идеалы, которые считаются обязательными для членов общины. Раз в общине есть и нетолстовцы (их – большинство), то я считаю лишним приводить здесь пункты этой моральной части. Но все же должен сказать, что колония эта недаром слывет толстовской. Пускай большинство – нетолстовцы и под моральными тезисами В.Г. Черткова не могли бы подписаться, но дух общины все-таки толстовский. Там не едят мяса и рыбы, вообще ничего живого; там выполняют полностью упомянутый седьмой пункт договора, и, самое главное, там царит та атмосфера содружества при совместной работе, которая является одновременно и причиной и следствием подлинного единения людей, о котором мечтал Толстой. Но там есть и нечто большее: специфически благочестивая атмосфера; если ее нельзя назвать толстовской, потому что в колонии есть и нетолстовцы, то она все же атмосфера религиозная. Я попал в колонию в субботу, и в воскресенье, вечером, я был свидетелем очень трогательного зрелища. Собрались колонисты, и стар, и млад, и пели духовные песни. Мелодии примитивны, слова песен просты, но хор голосов мужских и женских, старых и молодых, давал прекрасный ансамбль. Лица певцов и певиц были торжественны, а у некоторых светились необыкновенным светом. Особенно поразила меня одна крестьянская девушка лет 18, которая днем еще казалась мне грубым безграмотным существом, попавшим в колонию по недоразумению. Во время пения лицо ее преобразилось; она читала слова некоторых песен по книге, и видно было, что вся ее душа участвует в этом общем хоре и глубоко чувствует смысл гимнов. Я видел также несколько мне известных лиц, которые ничего общего с сектантством не имеют, но общее настроение охватило и их. Некоторые из членов колонии мне говорили, что имеются в ней и отрицательные стороны. Большинство в колонии семейные, есть только человек 15 холостяков (всего же в колонии вместе с детьми сто с лишним человек). Так вот некоторым холостякам кажется, что они напрасно работают на детей семейных, семейным же кажется, что вся колония существует главным образом для них. Бывают недоразумения и по мелким поводам, как например, выражали недовольство при мне, что одна семья заняла баню под мойку своего белья, тогда как была суббота и всем хотелось мыться. Но в общем, принимая в расчет, что люди не ангелы, можно сказать, что до сих пор несогласия улаживалась мирно и скоро. Каждое воскресенье и каждый праздник происходит собрание всех
взрослых членов общины. На этих собраниях обсуждаются планы работ,
все нужды общинников и улаживаются все конфликты. Ржевская община существует всего полтора года. Хотя дело только начиналось и не было вполне налажено, все же колония получила прибыль уже в конце первого хозяйственного года. В текущем году ожидается прибыль гораздо более значительная. Зимой предполагается организовать школу для детей. Для взрослых выписываются книги и журналы, но главным образом сектантского или толстовского содержания; местная библиотека имеет лишь специальный интерес. Впрочем, у отдельных членов колонии имеются свои книги, и они обмениваются ими между собою. Здесь есть отбывшие наказание в тюрьме и ссылке политические деятели, отказавшиеся навсегда от всякого вмешательства в борьбу, есть здесь и юноши, принесшие сюда первый пыл своих исканий истины и справедливости не на словах, а на деле. Я видел здесь одного юношу, только что окончившего среднее учебное заведение и потерявшего всякий вкус к жизни. Он стрелялся. Пулю извлекли и его вылечили. Случайно он узнал об общине и приехал в нее "жить по правде, а не на шее народа". Он работал, как крестьянин, и физически и духовно окреп. Он спрашивал меня, "честно ли", чтобы он продолжал образование. Я долго беседовал с ним, и позднее получил известие, что он подал бумаги в университет с тем, чтобы "сесть на землю" по окончании университета... Там же, в Ржевске, я познакомился с В.А. Ш., который приехал туда на день по делу и пригласил меня заехать в другую колонию, основанную им и его братом в Харьковской губернии. В.А. Ш. – богатый помещик. На 37 году своей жизни он решил зажить по новому, роздал большую часть своей земли крестьянам Екатеринославской губернии, где было его имение, и купил небольшое имение в Харьковской губернии. В этом имении он и его брат и их семьи работают самостоятельно, прибегая к наемному труду только по необходимости. Двенадцать десятин выделено им под общину. Сейчас в ней живет пять человек. Кроме того, лица, желающие поселиться в деревне и заняться земледелием силами одной только своей семьи, без наемного труда, могут получить на очень выгодных условиях две или три десятины и всякую моральную помощь. В.А. Ш. принимает в свое имение новых лиц с большим разбором, ибо он хочет, чтобы дело, которому он служит, процветало. На днях я читал письмо, в котором он отказал в приеме в общину одному лицу, которое не удовлетворяло некоторым требованиям, необходимым для успешной работы. После посещения этих двух колоний, я уехал в деревню к одному знакомому толстовцу и прожил у него целый месяц в тех самых условиях земледельческого труда, в которых живут и в колониях. Знакомый этот – бывший земский учитель; жена его – бывшая учительница. Это интеллигенты, "севшие на землю" по убеждению еще двенадцать лет назад. Они приобрели десять десятин земли и собственными силами упятерили ее стоимость. Они развели прекрасный сад, имеют огород и сеют пшеницу, рожь и овес. В этом году впервые посеяли подсолнечники. У них трое детей: дочь 19 лет и два сына 16 и 15 лет. Все работают все работы. Дети с рождения не ели мяса, но отличаются цветущим здоровьем. В заключение должен отметить, что окрестное крестьянское население относится к общинникам и к одиночкам толстовцам, севшим на землю, очень хорошо. Я не раз расспрашивал крестьян об их взгляде на этих нарочитых земледельцев и всегда слышал им только похвалы. Крестьянам кажется странным, что они не едят ничего живого, не ходят в церковь, но зато они преклоняются перед их честностью, просвещенностью и умением хорошо поставить хозяйство. Многие из крестьян обращаются к ним за советами, стараются кое-что полезное для тела и души позаимствовать.
51 - Из газеты "Киевская мысль" от 22-го августа. _____________________________________________________________________________________ Сохранить Вегетарианское Обозрение, Киев, 1912 г. в формате doc (zip. 370Kb)
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































