 |
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 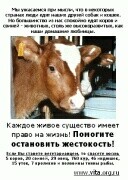
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 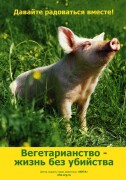
Формат jpg. 180Kb |
|
Проект "Виты" по восстановлению истории дореволюционного русского вегетарианства __________________________________________________________________
Вегетарианское обозрение, Киев, 1912 г. ВО.8-9.1912 Временное и вечное О религиозном сознании и религиозном действии
Слово брошено мимоходом, случайно, а мысли сплетаются в длинную цепь, волнуют душу, создают вопросы чуть ли не мировой важности, против чего-то протестуют, что-то утверждают и ищут выходов к каким-то новым истинам, к каким-то неизведанным просторам. Поиски новых истин, кажется мне, есть естественная потребность души, возникающая в тот момент, когда душа перестает удовлетворяться старыми истинами. Новые истины так же бывают нужны человеку, как новый воздух. Старый воздух стал затхлым, дышать и жить в нем нельзя – и тянет куда-нибудь в другое место, где в атмосфере больше движения, где "изжитой" воздух непрерывно уносится в сторону, заменяясь другим, чистым и оживляющим. Прочел в "Вегетарианском Обозрении" обращение к читателям от издательства "Зеленая Палочка"57. Название издательства воскрешает в душе красивую и трогательную страничку из жизни умершего яснополянского мыслителя. Цель издательства – "установление в опустошенной, измученной душе современного человека мира и любви" – такая благородная и серьезная цель, что симпатии к ней рождаются почти что инстинктивно, помимо сознания. Фундаментом для осуществления этой цели принимается "религиозный опыт человечества". Что ж, религиозный, так религиозный. Всякий опыт хорош, если это действительно опыт. Вековой спор религии со скептическим разумом еще не решен. Там, где речь идет о сущности явлений, управляющих миром (независимо от тех свойств, которыми эти явления определяются), — там оба, и разум, и религия, одинаково пишут крупными буквами: Неведомое. Только религия пишет это имя в душе и на бумаге с прописной буквы, как некую великую тайну, пред которой следует преклониться в вечном смирении, а разум – с маленькой буквы, как обозначение загадки, которую следует преодолеть и разгадать, снявши один за другим все окутывающие ее покровы неизвестности. Здесь, в этой точке, по существу ничего нельзя возразить против религии и, следовательно, против религиозного опыта. Кому что ближе душе, то и хорошо. Религиозный, так религиозный. Лишь бы был опыт. Но есть в обращении издательства "Зеленой Палочки" несколько слов, с которыми душа при всей своей "мирности" никак не может примириться. Были попытки, — говорится в обращении,
— делать из религии орудие для достижения тех или иных политических
идеалов и, вообще, целей внешних: одни пытаются, опираясь на религию,
закрепить то устройство человечества, которое существует; различные
реформаторы, как например, Мадзини, Ламеннэ, Рескин и в наши дни
Толстой (одной стороной своей деятельности), опираясь на ту же
религию, пытались произвести в этом устройстве желательные им
изменения. Мы далеки как от одного, так и от другого. Мы не хотим
отдавать наших скромных сил на служение какой бы то ни было временной
цели, во-первых потому, что все временное, если смотреть на него
с высоты Бога, ничтожно, а во-вторых, и главное, потому, что в
религии, в Боге разрешаются легко и просто все самые запутанные
"вопросы" современности; единственно, что нам дорого
в мире, это Бог и отражение Его – душа человеческая, полная мира
и любви ко всему. Что можно было бы возразить против этого, если бы это можно было бы доказать, хотя бы и данными религиозного, а не эмпирического, научного опыта? Ничего решительно. Можно было бы, самое большее, принципиально отвергнуть достаточность религиозного опыта или подвергнуть сомнению его достоверность – и только. Но доказать этого нельзя, даже оставаясь в сфере строго религиозной, и потому мысль выдвигает ряд возражений, на которые не находит в себе ответа, и пытается найти иные формулировки для высказанных в "обращении" воззрений. Я не решусь причислить себя к числу религиозных людей. Но я отношусь к ним с уважением, которое дает мне право надеяться, что я до некоторой степени понимаю их и могу позволить себе стремление вникнуть в вопрос и постараться в нем разобраться со стороны его внутренней сущности, т.е. так, как будто бы я был религиозным человеком. Я говорю себе: — Я не хочу временного. Я отрекаюсь от него, потому что душа моя вся лежит к вечному. И тут же спрашиваю себя: — Но что такое это вечное? Не слагается ли оно из бесконечного числа временностей, подобно тому, как бесконечно большое число слагается из отдельных единиц? И можно ли представить себе вечное отвлеченным от временного, отделенным от него и враждебным ему? Не теряет ли и самое понятие "вечное" свой смысл, как только мы отказываемся от понятия "временное"? Затем я говорю себе: — Я не хочу разрешать никаких вопросов современности, потому что все они разрешены в Боге, который есть Любовь. Но тут же опять спрашиваю себя: — А что такое любовь? Действенное начало или мертвое и неподвижное? И может ли существовать любовь вне каких-либо внешних, реальных признаков и проявлений? Бог есть Любовь – да. Но это доказывается всей жизнью мира, потому что нет ни одной самой мелкой материальной частицы, на которой не сказалось бы это действие любви Бога. Если наша душа есть отражение Его, то не должна ли и наша любовь проявляться в чем-то внешнем, осязательном, заметном, устрояющем жизнь и вносящем в нее элемент разумности и порядка? Если я верно поставил и разрешил все эти вопросы, то невольно возникает сомнение, мыслимо ли вообще какое бы то ни было религиозное сознание вне живой и крепкой связи его с действительностью жизни? Можно ли любить человека, не любя человечества? И можно ли любить человечество, оставаясь равнодушным ко всему тому злу, которое причиняется людям недостатками их общественного устройства? И дальше возникает новый вопрос.
Если религия не может быть неподвижной, а должна быть действенной,
— то в каком направлении действенной? Должна ли она, как это делает
господствующая церковь, утверждать существующее устройство человечества
или же, наоборот, должна, как это делают Толстой, Ламеннэ и другие,
стараться изменить его? И для тех, кто действительно вместил в себя во всей полноте "религиозный опыт", выбор ясен. "Царство Божие силою берется и восхищающий усилие приемлет его... Это – то же, что "Si vis pacem — para bellum (Если хочешь мира, готовься к войне)". Всякий, кто хочет идти по стопам Христа, не может не знать, что "не мир, но меч принес" Он в царство человеческих неурядиц. И всякий, кто видит, как мало еще осуществлены в жизни заветы великого Галилеянина, должен сознавать, что не время еще опускать меч и насаждать мир, что, быть может, жизни нужна еще та любовь, которая заставила Христа с бичом в руке идти в храм, чтобы изгнать оттуда торгашей. Любовь в мире – там вдалеке, как
желанная, но еще очень и очень отдаленная цель. А сейчас – любовь
в борьбе, любовь в обличении, любовь в гневе и негодовании, в
изгнании всех, кто только ради торга и наживы расположился в храме
жизни. — Но где же новая истина? Это ли новые просторы? Да то, что я бегло указал здесь, — это новая истина, открывающая новые горизонты. Правда, она не новее, чем мир, но она бесконечно новее тех истин, в кругу которых вращается подавляющее большинство религиозных людей нашего времени. Религия наших дней (я исключаю иерархию, усердно "утверждающую" современное человеческое устройство жизни) всемерно заботится о том, чтобы стать "отвлеченной", как можно меньше имеющей касательства к жизни, к ее повседневным заботам, тревогам и неурядицам. И носители этой религии не замечают – или не хотят замечать – что, отвлекаясь от неурядиц жизни, они этим самым уже утверждают их, потому что там, где нет борьбы, есть попустительство, и там, где нет стремления вырвать зло с корнем, есть косвенное содействие взращиванию его. Провозглашая идеалом своим "внутреннее" царствие Божие, религиозные люди делают сейчас все возможное, чтобы внешние условия как можно меньше облегчали задачу достижения этого идеала. Вместо того, чтобы расчищать себе и другим дорогу к царствию Божию в темном лесу жизни, они предпочитают беспомощно биться в колючих и цепких кустарниках, думая, что их бессильные взмахи рук и топтание на одном месте есть то самое движение вперед, которое должно привести их к цели.
Но временное само по себе не является ли частью вечного? Не из временных ли явлений состоит вся вечная текучесть жизни? Казалось бы, нет ничего яснее и проще мысли, что мы участвуем в вечном лишь постольку, поскольку мы опираемся на временное. Что мы лишь настолько прочно пребываем в вечном, насколько успешно и умело разрешаем наши временные задачи. Современному религиозному сознанию совершенно чужда та простая истина, что если хочешь вечного, то нужно искать проявлений его и связи с ним во временном, — как чужда ему глубокая истина слов Христа о том, что кто душу свою погубит ради Него, тот спасет ее, а кто сохранит душу свою, тот погубит ее. Мы все вообще не умеем еще мыслить с достаточной глубиной. Мы привыкли считать парадоксами, "игрой слов", самые очевидные истины, совершенно не замечая, что наоборот, как раз весь строй нашего обычного житейского, не углубленного мышления есть один сплошной парадокс, одна сплошная грубая, поверхностная, бесцветная игра слов, лишенная всякой внутренней мысли и всякого соответствия с действительностью жизни. В самом деле, что такое, как не парадокс, утверждение, будто религия только тогда действительно прикрепится к вечному, когда она отречется от временного? В каких реальных формах можно представить себе основу религии, любовь, как некоторую "вещь в себе", неподвижную и бездейственную, не борющуюся со злом и сохраняющую мир в душе людей в то время, когда кругом гремят битвы и жадность с насилием торжествуют во главе всех других пороков? В каких реальных формах можно представить себе человека, который стремится через любовь воссоединиться с вечностью, но не должен обнаруживать эту любовь в той области, которая больше всего ему доступна, и не имеет права прикасаться к тем отдельным звеньям, из которых скована цепь вечности? Такая любовь и такой человек – призраки. Религия, отказывающаяся от проявления своего в земных вещах, — есть отсутствие всякой религии, и последователь ее – человек, стоящий вне вечности и прикованный к единственному, что есть в мире действительного временного: к иллюзии, к обманчивой тени, ошибочно принимаемой за нечто, существующее на самом деле. Имеет ли все это какое-нибудь отношение к вегетарианству? Да, огромное. Большое число вегетарианцев разделяет вегетарианские идеи по соображениям религиозного характера. В своих симпатиях к живому миру, лежащему вне человека, они видят как бы "исповедание любви", являющееся основой их религиозного сознания. И мне кажется, что им было бы крайне важно, было бы просто необходимо уяснить самим себе, какую именно религию они исповедуют: парадоксальную ли и призрачную религию отречения от живой жизни или истинную религию принятия этой жизни и слияния в ней через временное с вечным. Им нужно уяснить себе, только ли чувствуют они любовь к живому миру, или же они осуществляют ее, насаждают ее там, где ее нет, и борются со всем, что ей препятствует. Если они принадлежат к первой категории, они могут быть спокойны: в них нет ничего вегетарианского, ибо "разве не то же самое делают и язычники", далеко стоящие от вегетарианства? Если же они принадлежат ко второй категории, то им придется серьезно подумать о своем отношении к "временному" и решить, насколько широко и деятельно должно быть их участие в борьбе за внесение разумного содержания в это временное. Они должны будут подумать над общественным значением вегетарианства и решить, в какой мере любовь к живому миру в вегетарианстве связана с любовью к человеку и требует работы над улучшением внешних условий его жизни. Впрочем, об этом я думаю более подробно поговорить в другой статье – "Вегетарианское и общественное", — которая, быть может, скоро появится в печати.
Примечание: 57 - "Вегетарианское обозрение" 1912 г., ______________________________________________________________ Сохранить Вегетарианское Обозрение, Киев, 1912 г. в формате doc (zip. 370Kb)
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































