 |
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 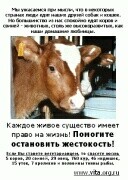
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 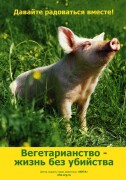
Формат jpg. 180Kb |
Вегетарианское обозрение, Киев, 1914 г.
ВО.1.2.3.4.1915 Беседы Л.Н.Толстого (1907-1909 гг.) Начало см. в №№8-9, 10 «Вегетарианского Обозрения» за 1914 год №1, с. 6-10 IX Был хороший, теплый июльский день. Из Ясной пришел X. Абрикосов и сказал, что Л.Н. собирается прийти сегодня к нам пешком. Значит, Л.Н. чувствует себя очень хорошо, если решился на эту десятиверстную прогулку.
Уже второй час. Нам не терпится. Хочется видеть Л.Н. Все время кто-нибудь из нас выбегает на балкон посмотреть, не видать ли Л.Н. Наконец, вдали старинной березовой аллеи показалась его белая фигура. Он был в сапогах, в белой рубашке и белой японской шапке. На плечах была накинута верхняя рубашка. Все мы очень обрадовались. С нами Л.Н. побыл не больше часа и уже начал собираться обратно. Чертков предложил запрячь лошадь и отвезти его до Ясной. – Нет, не надо. Я и так дойду. Но когда А. К. предложила ему, чтобы я пошел провожать его, Л.Н. не противился. Перед уходом Л.Н. пошел с Никольским в одну из комнат, чтобы поговорить с ним. Этому молодому человеку предстояла скоро военная служба, и об этом он хотел поговорить с Л.Н. Через четверть часа они вышли. Л.Н. был взволнован. Видно, разговор был интересен. В это же время Чертков приготовил на двор свой фотографический аппарат, желая снять с Л.Н. портрет. Но когда он попросил его позировать ему, Л.Н., почти всегда мирно соглашающийся на это, на этот раз не захотел. Он насупил брови и не мог скрыть своего неприятного чувства. – Там интересный, важный разговор, касающийся жизни человека, а здесь глупостями заниматься, – сказал он раздраженно. Но, сдавшись просьбам В. Г., он пошел постоять. Видно, укротив себя, он пошутил над Чертковым. – Он все стреляет! Но я отомщу ему. Возьму какую-нибудь машину и, когда он начнет стрелять, обкачу его водой! И засмеялся весело... Пошли. Л.Н. шел мелкими медленными шагами. Почти всю дорогу мы молчали. Мне не хотелось отрывать Л.Н. от его мыслей. Только на полудороге я спросил: – Лев Николаевич, какое ваше мнение о Наживине? – Мне кажется, что нельзя изобразить в художественных формах христианское мировоззрение. Выходит неестественно и деланно. Этим главным образом страдает Наживин. – А ведь вы в своем «Что такое искусство?» писали, что все то, что передает настоящие переживания человека, все это произведение истинного искусства. А разве нельзя выразить переживания человека, имеющего христианское мировоззрение? – Да, да... Молчание. Лев Николаевич не любил спорить. Дальше я спросил: – А как вы относитесь к Достоевскому? – Достоевский мне близок. Это единственный из всех русских художников, которого я всегда ценил и ценю... Жаль, что он писал так растянуто, размазанно. Хотя, говорят, он находился в очень трудных обстоятельствах и поэтому писал много и необработанно. В тот же вечер приехал в Ясную М. В. Булыгин. После ужина М. В. начал рассказывать о тех недоразумениях, которые возникают между ним и крестьянами. – Моя земля обхватывает с трех сторон их земли. У них мало лесу. И вот, вольно или невольно, они травят мои посевы, рубят мой лес. Зная их безземелье и бедноту, я не могу осуждать их. Но не могу и оставить так дело. И вот, надо скандальничать, чтобы уберечь себя. Когда я переезжал из города в деревню, мне казалось, что я близок к разрешению вопроса своей жизни. Что моя жизнь будет определенная, радостная, бескомпромиссная. А вот с тех пор прошло больше 20 лет, и я с прискорбием вижу, что этого не случилось, что в моей жизни все столько же противоречий, компромиссов. Лев Николаевич: Вот это-то и хорошо. Надо всегда видеть свою отсталость и двигаться вперед. А что же бы было, если бы вы успокоились и не видели тех противоречий, которые существуют между вашей внешней жизнью и вашими внутренними стремлениями, вашим мировоззрением? Полное замерзание. X Между Ясной Поляной и Ясенками находится небольшая, довольно красивая деревушка «Телятники». От нее до Ясной не больше, как полторы версты. Там, в Телятниках, жил единомышленник и друг Толстого, известный музыкант А. Б. Гольденвейзер. Я его очень любил и чувствовал к нему чувство душевной близости. Г. бывал почти каждый день у Льва Николаевича и играл часто на рояли. Особенно любил и ценил его музыку сам Л.Н. – Ах, как это прекрасно; как прекрасно! – восклицал он. Раз Лев Николаевич даже заплакал от восторга... Я бывал часто у А. Б. Раз там застал меня Л.Н., ехавший в Ясенки. – Лев Николаевичу – попросил я, – хотите, я буду сопровождать вас до Ясенок? – Что ж, хорошо, – улыбнулся он. – Только вы не поспеете за лошадью. – Нет, я буду бежать вместе с ней. И мы отправились. – Знаете, – нарушил молчание Л.Н., – сегодня утром я проснулся очень рано и, лежа, думал о «Круг чтения». (В это время, в август, Л.Н. работал над вторым изданием своего замечательного труда «Круг чтения»). И вдруг неожиданно пришла мысль написать не так, как раньше. Раньше каждый день не имел почти никакой прямой связи с предыдущими Теперь же я так расположу дни, чтобы каждый день был посвящен известной основ моего мировоззрения, а несколько дней – я насчитал их около1 22 – весь круг моего миросозерцания. Так, кажется, будет ценнее. Теперь я так увлечен этой работой и так она мне кажется нужной, что у меня только одно желание, одна просьба к Богу, – чтобы он не отозвал меня раньше окончания ее... – Такое желание, – сказал я, – не большой грех. И мне кажется, что «Круг чтения» самая ценная ваша работа. Мы ее уже печатаем у нас в Болгарии. И я рассказал Льву Николаевичу о переводчике – молодом богатом человек, бросившем семью, богатство, университет и, несмотря на свое хрупкое здоровье, работающем вместе с нами в нашей общине. Этому юноше предстоял .................. Но эта перспектива радовала его. Он считал радостью и счастьем тюрьму, видя в этом необходимое условие своего духовного роста. – Я, – говорил он весело, – попрошу тогда «начальство» только об одном: чтобы оно дозволило мне взять с собой «Круг чтения», а потом... пусть оно продержит меня хоть тысячи лет в своих тюрьмах. Когда я рассказал это, Л.Н. нахмурил брови, и лицо его стало печально. – Как ни тяжело думать об этих юношах, которые, подчиняясь голосу своей чистой души, а не желаниям начальства, подвергаются самым ужасным испытаниям – я все-таки склонен думать, что только в этих тяжелых условиях и растут, и крепнут духовно эти милые юноши2. Я знаю многих, которые говорят, что окрепли духовно и нашли свое настоящее благо именно в таких положениях. Это, я уверен, кажется непонятным для многих. Но это так. Да... это именно так... Когда говорят про христианство, про его приложение в жизни – все думают, что из этого будут только одни страдания. «Кто тебя ударит по одной щеке, ты поверни к нему другую» – «Не противься злому» – от этого могут быть только страдания. Так это кажется людям поверхностным, не видящим глубокого смысла этих слов. Ведь в этой заповеди ключ понимания христианства. Ведь в них, как в медали, два лица: за страданиями – высшее благо... Но люди не знают и не понимают этого блага... – Я вас оставлю! – вдруг крикнул с дрожащим голосом Лев Николаевича И лошадь понеслась. Видимо, Л.Н. хотел скрыть свое волнение... Вечером того же дня я был в Ясной. Там было много народу. Были и Чертковы. Софья Андреевна ездила в Москву и только что вернулась. Среди общего разговора она обратилась ко Льву Николаевичу: – Знаешь, Лева, директор Исторического музея был очень любезен ко мне и с готовностью отделил твоим бумагам особую комнату. Лев Николаевич изменился в лице. Весь красный, с спазмой в голос, он сказал, почти крича, и еле сдерживая слезы: – Что ты со мной делаешь?! – Что, что я делаю, – начала быстро говорить С. А., ничуть не изменяясь ни в голос, ни в лице. – Я же туда отнесла ненужные тебе бумаги: старые дневники, черновики «Войны и Мира» и другие. Тебе ведь они не нужны, а там будут в безопасности: тут может случиться пожар, они сгорят... Но Л.Н. уже молчал. Он боролся с собой... XI Я уезжал на несколько дней в Петербургу. Л.Н. попросил меня привезти ему оттуда все книги и брошюры, которыми больше всего увлекается молодежь. – Надо бы узнать, чем живут эти молодые поколения, чем двигаются на эту свою революционную деятельность... Я привез несколько брошюр и, между прочим, книжку П. Кропоткина: «Анархия и коммунизм». На другой день, приехав к нам, Л.Н. сказал: – Я прочитал брошюру Кропоткина. Первая часть, где он рассматривает современный строй, критикуя его основы, – превосходна. Ничего лучшего нельзя желать. Против его доводов, мне кажется, нельзя ничего возразить. «Современный порядок несправедлив,..........его надо.................новым». Хорошо. А дальше? Как это сделать? Вот здесь Кропоткин выдает свою удивительную, – ну, так сказать, – легкомысленность. Для него устройство новой жизни дело только нескольких дней. Достаточно, мол, разрушить старое, насильнически же ввести новое, и все увидят, как это новое хорошо, все примирятся с ним, и основы нового строя будут крепко положены. А возможно ли это? Люди живут сейчас плохо. Почему? Да потому что все смотрят на свою жизнь как на арену, где надо стараться получать насколько можно больше наслаждений. А это дается только борьбой, насилием. И люди ничем не брезгают, только бы получить свое. И вдруг эти же самые люди, под влиянием какой-то магической палочки, переменяются в корень, отбрасывают прочь и свою жадность, и свою борьбу, и свое насилие и становятся ангелами. Тут есть какое-то недомыслие. И причина этого недомыслия, как мне кажется, в том, что Кропоткин отвергает религию, тогда как только религия может пересоздать порядок человеческих отношений. Требуя любви, братства и отвергая насилие (какое бы то ни было – и . . .........., и анархическое, и социалистическое), религия пересоздает тех отдельных людей, которые исповедуют ее. А, пересоздавая отдельных людей, религия этим самым пересоздает и всю жизнь общества. Если лекарство вылечивает все отдельные клетки человеческого организма, то оно этим самым обновляет и весь больной организм. Но, говоря про Кропоткина, я ничуть не хочу уменьшить его значение. Кропоткин, по-моему, самый передовой из всех ученых нашего времени. И, имя громаднейшую научную эрудицию, он вкладывает свое богатство на лучшие цели... Кого бы я хотел видеть из современных ученых, так это именно Кропоткина. В лесу, около дома богатой помещицы Звегинцевой, в нескольких верстах от нас, спрятались два экспроприатора. Девочка какая-то пошла в лес собирать грибы и заметила их. Испугались и она, и они. Но пока она добежала до дома и сообщила об этом, молодые люди успели убежать порядочно далеко. В доме Звегинцевой жили тогда стражники, охранявшие ее. Двое из них оседлали своих лошадей и пустились вдогонку экспроприаторов и догнали их только в двух верстах от Ясной, на тульском шоссе. Стражники крикнули им: – Руки вверх! Парни подняли руки. Но вот, когда стражники слезали с лошадей, чтобы обыскать своих пленных, эти последние, воспользовавшись удачным моментом, вынули в один миг свои браунинги и тут же свалили обоих стражников и их лошадей, а сами убежали и скрылись. В этот же день Л.Н. поехал кататься как раз по шоссе и увидал убитых. – Ужасно было смотреть, – рассказывал он нам. – Лежать и лошади, и эти несчастные люди. Но мне жальче лошадей. Я не мог смотреть на них. Закинули назад головы, с открытыми выпученными глазами. Чем они виноваты? Люди борются, убивают друг друга ради власти, ради денег. А лошади? Мне всегда, в таких случаях, жальче животных. Я очень люблю лошадей. №2, с. 44-46 XII В день своего рождения, 28-го августа, Лев Николаевич был особенно светло настроен. Он приехал к нам, в Ясенки, вместе с дочерью и внучкой. Все время шутил, смялся и, поглядывая на нас своими впалыми, но ясными глазами, рассказывал нами про свою прежнюю жизнь. – Когда я был молод, – говорил он, – я думал: какой я буду, если доживу до 80 лет? И мне казалось, что я буду непременно беззубый, сгорбившийся старик, достигали, однако, всех знаний, доступных человеку. Теперь мне 79 лет. А я чувствую, что истина только теперь еле-еле проясняется для меня. И это чувство чрезвычайно радостно. Значит, придется еще искать, еще находить, еще радоваться новому... А. К. принесла Л.Н. письмо своего брата – офицера, недавно посетившего их и имевшего несколько личных бесед с Л.Н. – Он очень счастлив, что ему пришлось повидаться и поговорить с вами, – сказала она, подавая письмо. – Что, он хвалит меня? – спросил Л.Н., не беря письма. – Да. – Тогда я не буду его читать. Я люблю читать такие письма, где меня разбирают на косточки; это, по крайней мере, полезно для души. И он не взял письма. Воцарилось молчание. Первый нарушил его Л.Н. – Вот я вам скажу сейчас такую вещь, которой вы не поверите, но я говорю вам от чистого сердца, ничуть не желая рисоваться. Я никак не могу понять, почему это меня расхваливают? Я самый посредственный человек. Когда А.К. выразила свой протест, Л.Н.прибавил: – Я не рисуюсь. Я говорю то, что думаю. Что я такое? Разве я не ничтожество в сравнении с Христом, Буддой, Лао-Тзе, Сократом, Эпиктетом? Что я дал нового людям? Ничего. Благодарю Бога хоть за то, что мне удалось найти общего в учениях всех этих мудрецов и показать это общее людям нашего времени... В тот же вечер, после 6 часов, вся наша молодая компания, «забастовщики», как нас называли крестьяне, отправились в Ясную. В гостиной были светские знакомые, приехавшие в Ясную по случаю праздника. Чувствуя себя неловко среди них, мы пошли в кабинет Л.Н., куда скоро пришел и сам хозяин и просидел с нами часа два. Когда Л.Н. вошел, мы читали письмо американской писательницы Люси Малори. – Что вы читаете? – спросил ласково Л.Н. Мы сказали. – Да, это хорошее письмо. Я думаю, что Люси Малори одна из умнейших женщин, как нашего времени, так и прошлых времен. В каждом ее слове видна напряженная духовная работа. Вы знаете, как часто я пользовался ею в моем «Круге Чтения». И я мог бы наполнить одними ее мыслями весь «Круг Чтения». Л.Н. сел, оглядывая нас. Начался разговор. – Раньше меня всегда смущали слова Евангелия, – сказал Л.Н., – «любите Бога и ближнего». Какого Бога? Личного? Но как же я могу любить Его? Я Его не знаю. Но теперь эти слова мне так понятны и ясны, что я удивляюсь, как могут люди их не понимать, и как сам я мог раньше не понимать их. Люби Бога, но Бога не вне себя, а в себе, в других людях, в животных, во всем мире. И, когда любишь этого Бога, полюбишь и людей, и все... Меня еще смущали и другие слова Евангелия: «Люби ненавидящих тебя». Но как я могу любить ненавидящего, злого человека? Я не должен его любить, а должен его ненавидеть, отвращаться от него. От него, но не от того Бога, который в нем, во мне, во всех, а от того «злого», «ненавидящего», что находится в нем... Картушин пожаловался, что не может постоянно сохранять в себе радостное, светлое настроение духа, что часто как будто мрак окутывает его. – Вы говорите, что в вас иногда бывают тяжелые моменты, что иногда перед вами все темно – посмотришь назад и вспомнишь прошлое, и все гадко, отвратительно, ничего хорошего, радостного; всмотришься вперед, хочешь себе представить будущее – и опять все темно, нигде нет света, радости. Куда идти? И как будто жизнь останавливается... Я знаю эти моменты, они очень важны, они загоняют нас в настоящее... Жихарев, которого Л.Н. называл шутя, «нашим скептиком», сказал Л. Н-чу: – Вот, Л.Н., вы все говорите и пишете, что человеку, для его счастья, надо, подчинить свою личную волю пред волей Бога. А я не хочу никому подчиняться, – только самому себе. – Вы говорите: почему же мы должны подчиняться воле Бога? Я взбунтуюсь против Него. Я хочу подчиняться только себе и себе одному. Для меня эти слова были всегда непонятны, смешны. Конечно, мы должны подчиняться себе и никому больше. Но себе – не тому временному, низменному, что у нас есть, но тому высшему, божественному, что у нас находится и проявляется. Мы должны подчиняться Богу в себе. И нам нечего восставать против самого себя... Молчание. Я спросил Л.Н., что он понимает под выражением «искра Божия», которое он так часто употребляет. – То, что люди называют «искрой Божией», есть определенная, не имеющая ни начала, ни конца – сущность. Эта «искра» одинаково есть, как в ребенке, так и в дикаре и в цивилизованном человеке. Но она проявляется через нас, через наше тело. И потому она бывает засорена, затемнена и не может проявляться вполне. И вся наша обязанность к этой «искре» только в том, чтобы отстранить все то, что мешает, ей разгораться. Для меня это представляется так: духовная жизнь есть поток света. Человек – труба. Когда труба обращена к свету, свет освещает ее и проходит через нее. Повернулась труба – и свет не виден... И труба темна... Еще говорят: «Человек носит в себе Бога». Я чувствую, что тут неполное представление о Его сущности. Бог находится во мне, в вас, во всех людях, в животных, в растениях, в камнях, во всем мире, везде и во всем. Как же мы можем сказать: у меня есть частица Бога. Неужели можно делить на частицы Того неограниченного, бесконечного, непостижимого, Кого мы чувствуем и признаем в себе, как Бога?... Потом, обратившись к Картушину, Л.Н. спросил: – А что делает теперь Сутковой? Наверное, что-нибудь придумывает. В нем все какие-нибудь грандиозные планы. Картушин рассказал, что теперь Сутковой мечтает устроить подвижную библиотеку, содержащую самые лучшие книги мировой литературы. Эта библиотека будет помещаться в маленькой двухколесной тележке, которую люди будут развозить по городам и деревням. Л.Н. рассмеялся. – Какой он мечтатель! – Да, продолжал он через некоторое время, – как это ни странно, но несмотря на то, что теперь написаны горы книг, если начнешь выбирать из них самое ценное, то придется выкинуть почти все и оставить только маленькую горсточку... В этом деле и я много грешил, – закончил Л.Н., улыбаясь. Продолжая рассказывать о Сутковом, Картушин сказал, что, когда этот последний был в Самарской губ. среди добролюбовцев, его очень удивило то напряженное, сосредоточенное и вдохновенное состоите, в котором, казалось ему, пребывают постоянно не только сам Добролюбов, но и многие из его друзей. И теперь он хочет найти те условия, благодаря которым мы бы могли вызвать в себе подобное состояние и сохранить его. Л.Н. ответил: – Постоянная напряженная и сосредоточенная духовная жизнь так же невозможна, как и физическая. Ночь необходима для того, чтобы день был деятельнее. Отдых так же необходим для духа, как и для тела. Неужели мне, при моих 80 годах, можно работать, не уставая? Мне нужен отдых. И я отдыхаю, гуляя, разговаривая. Мне приятно играть с цепочкой часов или навертывать ее 28 раз... Я рожден 28-го года, 28-го числа. Наступило молчание. Мы обдумывали сказанное Львом Николаевичем. Он встал, приветливо улыбнулся нам и сказал: – Что бы вам показать? Хотите, я вам покажу портреты? Он взял свечу и начал подносить ее к висевшим портретам своих любимых писателей, друзей, родственников. – Знаете, кто это? – спросил он, указывая на портрет, сделанный масляными красками, с какого-то симпатичного человека, видимо из народа. – Это Сютаев, знаете вы о нем?... Это был замечательный человек. Его нарисовал Репин. В первый раз я узнал про него от Пругавина. И в тот же день поехал к нему в деревню. С тех пор и завязалась наша дружба. – А кого вы, Л.Н., ставите выше: Сютаева или Малеванного? – спросил я. – Конечно, Сютаева, воскликнул Л.Н. У Малеванного много мистического. Сютаев же был другого закала. И миропонимание Сютаева было глубже и чище. Этим я не хочу сказать, что у Малеванного нет духовной жизни; он – натура непосредственная и вся горящая духовным пламенем. Но, повторяю: Сютаев был другой. Мне очень хочется написать для «Круга Чтения» свои воспоминания о нем.... Я до сих пор помню, как нас медленно везла его лошадь, которую он не хотел подгонять кнутом. Она еле-еле идет, а мы разговариваем братски, сердечно... Была полночь, когда мы оставили Ясную Поляну и отправились домой. Стояла тихая и торжественная, как наши думы, ночь... И мерцавшие звезды, как будто, приветствовали нас с тем дорогим внутренним приобретением, которое мы ощущали в себе после свидания со Львом Николаевичем. №3, с. 85-89 I. 1908 г. Смерть Д. Г. Жечкова, на котором, главным образом, лежали редакторские и издательские дела «Возрождения», заставила меня ехать в Болгарию, чтобы поддержать своих друзей в ведении нашего общего идейного дела. Я бросал Ясную Поляну, оставлял новых, милых друзей, уезжал от того, кто поднимал меня, освещая мне вопросы жизни. И не знал, придется ли еще раз побывать в этих краях, еще раз видеть всех, слушать Л. Н. Но для меня дела «Возрождения» были настолько близки и важны, что я с радостью ехал отдать нм все свои силы. Снова закипела в маленькой редакционной комнатке работа, снова начали мы сновать вдоль и поперек Болгарии, разнося по всем уголкам небольшой страны весть о новом понимании жизни. И не прошло года, как дела «Возрождения» снова окрепли; явились новые, свежие работники, было уже кому со спокойной душой оставить дело. Все это время, среди самой кипучей деятельности, я жил воспоминаниями о Ясной Поляне. Образ и слова Л. Н. так и выступали в моей памяти с поразительной яркостью. Я не испытывал разлуки с ним. В минуты уединения и тишины предо мной вставал его духовный облик, его мысли и стремления, и я чувствовал, как этот облик вызывал во мне новые силы и надежды. В то время это была моя лучшая поддержка. Уже приближались августовские дни, дни юбилея Толстого. Я печатал в то время юбилейный номер «Возрождения», посвященный Л. Н. В этом номере были помещены его биография, воспоминания о нем, статья о его влиянии в Болгарии, перевод его знаменитого «Не могу молчать», и др. Я жил тогда только мыслями о том, кто помог мне найти свой свет и свой путь. И вот, к великой моей радости, я получил 13-го августа письмо от В. Г. Черткова, в котором он приглашал меня приехать к ним помогать им в их делах. Я только этого и ждал. На другой же день, сдав все свои дела друзьям, я был уже в пути. Я знал, что Л. Н. болен, что он бывает часто при смерти. И мне хотелось застать его, еще раз увидать и услыхать его. В Ясной и в Овсянникове, где временно жили тогда Чертковы, уже чувствовалось приближение 28-го августа. Увеличилось число посетителей, и с каждым днем росла почта. Узнав о моем приезде, Л. Н. пожелал видеть меня. 23-го мы поехали с В. Г. к нему. Опять уходят мимо знакомые виды сумрачной Засеки – и опять все те же хорошие, стройные и красивые сосны, все те же бледные задумчивые березы. Но вот близко уже Ясная, – краснеют на солнце железные крыши крестьянских изб, виднеется барский дом и сад. Бойкая, сильная чертковская лошадь проносит нас между знакомых башенок и, несмотря на подъем, не убавляя шагу, останавливается лишь перед самыми дверями. Особое чувство умиления, восторга и радости наполняло меня. И вместе с тем, я боялся утомить старика: мне было известно, что всего два дня назад у него был смертельный припадок, что он еле оправился от него. Мы вошли в его кабинет. Все та же знакомая обстановка: портреты по стенам, стол с теми же принадлежностями, полки с книгами, шкафы со статуями и все тот же старинный кожаный диван, на котором, как говорят, родился Л. Н.. На этом же диване он любил отдыхать после своих занятий. Л. Н. сидел в кресле. Рядом с ним – подвижной стол. На столе – немецкий том Ницше. Я поздоровался. Он наклонился, и мы поцеловались. Предложил сесть. Меня поразила его слабость. На лиц у него были такие впадины, каких не знал раньше. Глаза вошли как-то глубоко-глубоко и стали меньше, побледнели, потускнели. Он был необыкновенно ласков, любовен, как никогда. Его глаза, его движения, его слова – все было переполнено той особой мягкостью и теплотой, которые привлекали к нему сердца и умы людей, знавших его. Эти стороны его личности всегда усиливались болезнью. Болезнь, близость смерти, очищала еще больше душу Л. Н., очищала и освещала его. Он весь горел и светил духовно. Видя его, я чувствую умиление и восторг. На душ становится светло, свежо, радостно и покойно. – Я очень рад вас видеть, – говорит он тихим, ласковым голосом. – А как вы, Л. Н., живете, как чувствуете себя? – А я все слабею и слабею. Чувствую, что уйду. Близость смерти радует меня. Меня как будто зовут домой. И интересно, и радостно. . По тусклым глазам его пробежал огонек радости и ласки. – Эта болезнь дала мне очень много. Это так хорошо для души – болеть. Л. Н. спросил меня о болгарских друзьях и радовался, когда слышал о том духовном подъеме, который заметен у многих из них. Я поделился с ним впечатлениями от своего недавнего посещения болгарских назорен. Л. Н. следил с интересом за моим рассказом и расспрашивал подробно об их жизни, о том, чем они занимаются, как работают, отличаются ли от окружающих православных, как к ним относится народ, правительство, церковь. Когда я сказал ему, что они не читают и не признают никаких книг, кроме Ветхого и Нового Завета, считая, что вся мудрость находится только в этих двух книгах, Л. Н. был сильно огорчен. – Ах, как это ужасно, когда люди принимают какую-нибудь книгу за авторитет, хотя бы эта книга и была квинтэссенцией человеческой мудрости. Конечно, мы можем пользоваться ими, и должны пользоваться. Но, все-таки, даже маленький ребенок, и тот должен слушаться больше своего внутреннего божеского голоса, чем какой бы то ни было книги. Сильно тронули Л. Н. мои рассказы о духовной мощи назоренов-мучеников. За отказ от……….. они шли на смерть, на многолетние заключения. Я видал одного назорена, который пробыл в дисциплинарном батальоне 12 лет, и из них почти 4 года просидел в карцере на одном хлебе. И вышел, несмотря на все это, крепок и духом, и телом. Он говорил мне: – За свою веру я готов еще столько же пострадать. – Как это трогательно, как это трогательно! – воскликнул Л. Н. дрожащим голосом. – Я всегда помню рассказ о назоренской матери, которая пришла в тюрьму на свидание с сыном, сидевшим за отказ от …..; два ее старших сына давно уже сидели в других тюрьмах за то же самое. Увидав чрез решетку лицо любимого юноши, она могла только крикнуть ему: «………………….» Спазма сдавила голос Л. Н.. Помолчав немного и мигая глазами, чтобы сдержать слезы умиления, Л. Н. сказал: – Какая сила! Заметив усталость на лице Л. Н., я встал, попрощался с ним, и, по болгарскому обычаю, поцеловал старику руку, пожелав физического здоровья. Скоро настало и 28-ое августа. Приезжих было мало, так как все знали о плохом состоянии Л. Н. и не хотели, как видно, беспокоить его. Газеты были переполнены статьями о нем. Но в день юбилея случилось то, чего никто не ожидал. Со всех концов России, из городов и деревень, из тюрем и каторг, из казарм и дисциплинарных батальонов посыпались телеграммы и письма, в которых обновленные люди приносили благодарность учителю за тот свет, который он им дал. Но эти вести шли не только из одной России. Со всего земного шара прибывали письма, адресы, телеграммы, все с тем же содержанием любви, благодарности, восхваления. Их приносили тысячами, и все они были такими хорошими, трогательными. На Ясную Поляну нахлынула со всего мира такая громадная волна любви и признательности, что все мы ходили в те дни как опьяненные. Умиление и радость наполняли души. Мы были зрителями восхождения великой зари. Человечество, лучшая часть его, приносило благодарность умирающему учителю за ту поддержку, которую он оказал ему в его росте, в его духовной работе. Гусев и другие из близких Л. Н. читали днем и ночью полученное, выбирая для Л. Н. лучшее. Л. Н. ожил. Он стал бодрее, поднялся и весь сиял от той любви, которая чувствовалась во всем происходящем вокруг него. Он говорил, что для него нет большей радости, как то, чтобы чувствовать любовь людей, которых он так сильно любит. – Я знаю, что эта любовь не заслужена мной, но я позволяю себе радоваться ею. Когда ему предложили прочесть некоторые из писем и телеграмм, он отказался. – Теперь еще не могу. Дайте отдохну, успокоюсь и тогда примусь. Прошло несколько дней, и он взялся, – читал и отвечал. Меня поразила тогда его удивительная продуктивность и работоспособность. Письма его того времени были полны глубокого содержания, сильной любви к людям и сознания своей незаслуженности. II Лев Николаевич продолжал прихварывать. Общая слабость и недомогание все еще не оставляли его. Осень. Чудная русская осень. Погода ясная, воздух свежий, прозрачный. Ярко?зеленый парк Ясной Поляны резко вырисовывается на светлом фоне безоблачного неба. Л. Н. сидит на балконе, в своем кресле. Вокруг него его друзья. Говорили о многом. Коснулись, между прочим, и вопроса об искусстве. – Я удивляюсь, – сказал Л. Н., – полной бессодержательности теперешних, так называемых декадентских писателей. Какой-нибудь пьяница Куприн стоит неизмеримо выше, чём все эти Андреевны и Горкиевцы, не стоящие треснутой ломаной копейки. Хотя я и написал очень давно свою книгу об искусстве, но и до сих пор держусь все тех же взглядов, которые проводил в этой книге. Искусство должно быть выражением наших душевных движений. Оно передает другим людям эти душевные движения. Но оно, кроме того, должно передавать только самые значительные из всех наших душевных движений. А это есть не что иное, как религия. Вот почему всякое истинное искусство должно быть в своей основе религиозным. Отсюда и тесная, неразрывная связь между искусством и религией. Современное же искусство очень далеко от подобной связи. Нечего говорить, что современные поэты и музыканты могут быть искренними и выражать истинное и ценное. Например, Шопен – как мне кажется – выражает именно это «истинное», религиозное. А какой-нибудь Лист представляет из себя совершенно бессодержательный шум; и все-таки Шопен не есть еще настоящее искусство. А если он производит на нас такое сильное впечатление, так это только благодаря тому, что мы извращены, и не умеем отличать настоящего от искусственного. Кто-то сказал: – Не забывайте, Л. Н., что недостаток Шопена и Бетховена только в том, что они выбрали слишком сложную форму для выражения своих душевных движений, которые, несмотря на это, могут быть самыми возвышенными и важными. – Понятно, понятно, – согласился Л. Н. – Если Шопен действует на нас так сильно, то это только благодаря тому, что в нем еще сохранились эти религиозные искорки. У Листа же нет никакой религиозности. Вот почему вся его музыка кажется мне пустым шумом. III Я любил, приходя в Ясную, рыться в журналах и книгах, лежащих целыми кипами на столь в гостиной; часто, таким образом, я натыкался на что-нибудь интересное. Через Ясную Поляну ведь проходило все то лучшее и интересное, что появлялось не только в русской, но и в мировой литературе. Интересное, конечно, нам, близким по мировоззрению Л. Н. людям. На этот раз я нашел ремингтонный оттиск переведенных С. Д. Николаевым мыслей Магомета, не вошедших в Коран. Я стал читать их. Л. Н. подошел ко мне и из-за плеч посмотрел, что я читаю. – А, Магомета читаете? Прекрасные мысли. Читали о молитве? Просит Бога, чтобы тот даровал ему бедность. Я в первый раз встречаю подобную молитву3. – А читали о том, как врач Магомета хотел его убить? – И, взявши рукопись, Лев Николаевич прочитал: – Магомет спал под пальмою и, внезапно проснувшись, увидел перед собою своего врача Дьютура, занесшего над ним меч. «Ну, Магомет, кто спасет теперь тебя от смерти?» – вскричал Дьютур. «Бог», – отвечал Магомет. Дьютур опустил меч. Магомет вырвал его и вскричал в свою очередь: «Дьютур, кто спасет теперь тебя от смерти?» «Никто», – отвечал Дьютур. «Так знай, что тот же Бог спасет тебя», – сказал Магомет, возвращая ему меч. И Дьютур сделался одним из вернейших друзей пророка4. – Ведь это замечательно! – воскликнул Лев Николаевич, – Где твоя опора? Вне Бога нет ее. Я сказал Л. Н., что не могу себе объяснить один факт из жизни магометанских и христианских народов. Несомненно, религия Христа более чиста и возвышенна, притом и более древняя, нежели магометанство. Значит, христианские народы находились под ее влиянием более долгий период, чем мусульмане под влиянием Корана – и, все-таки, несмотря на все это, магометанские народы, в общем, при их низкой культурности, стоят выше нравственно, как в своей личной, так и в своей общественной жизни, чем христианские народы. Чем объяснить это? Может быть, христианская религия была слишком возвышенна и не давала тех простых правил, которыми бы руководились народные массы в своей ежедневной жизни. Поэтому, она как бы простояла за все эти 2.000 лет сбоку так называемых христианских народов, не затронув их нравственного чувства. Магомет же не дал никаких возвышенных идеалов своим народам. Но зато он дал им правила, посильные для них, и поэтому держащие их на известном нравственном уровне. Спуститься ниже этих определенных нравственных правил считается магометанами великим грехом. – Я думаю не совсем так, – сказал Лев Николаевич. Магометанская религия была не так возвышенна и требовала немногого от верующих. Поэтому люди не стремились искажать ее, и она имела свое благотворное влияние на верующих в нее. Совсем иное дело было с христианством. Своим учением Христос перевернул весь мир. Он не оставил камня на камне. Он давал неизбежный и обязательный путь переработки и личной, и общей жизни. Он давал не только возвышенные идеалы. Он указывал и заповеди, ниже которых не должны спускаться исповедующие его учение. Он дал основу, на которую должны вступить люди и указал путь к бесконечному совершенству: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». И так как это учение было возвышенно и неизбежно требовало от людей постоянного движения, а не внешних застывших форм поведения, поэтому-то именно людям, тем, которым оно не пришлось по вкусу, было нужно извратить его. И это извращение удалось очень легко, потому что возвышенное учение Христа, привлекая к себе народные массы, не было им вполне ясно, как новое понимание жизни. Чем выше учение, тем больше должно быть извращение его, для того, чтобы сделать его безвредным. И наоборот. Вот почему магометанство было извращено лишь немного, а христианство – совсем. И вот почему магометанство подняло своих последователей, а христианство как будто и не пошевелило их. * * * Несколько дней спустя, я зашел опять к Л. Н.. Это было в конце августа. В Ясной было много народу. Один из моих друзей спросил Льва Николаевича: – Нет ли каких-нибудь внешних средств, которые бы вызывали в нас религиозный энтузиазм, заставляющей нас идти с радостью на смерть за свои верования? Мне кажется, что простой народ более склонен к этому. Недавно я читал про преследование бабидов. Вели одного из видных членов движения на эшафот, издеваясь над ним и мучая его. Во множество ран, сделанных на теле мученика, палачи воткнули горячие свечи. Бабид шел бодро, с улыбкой на устах, проповедуя народу свою веру. Когда же какая-нибудь свеча падала с «подсвечника», бабид наклонялся, брал ее и снова втыкал в рану. Когда пришли на место казни, он наклонил сам свою голову, улыбаясь палачу. И многие, многие шли и идут с радостью на мученичество. Я же, несмотря на всю несомненность своего верования, не чувствую готовности к этому. Почему? Потому что у меня нет энтузиазма. Все у меня построено на холодном рассудке. Сердце же в запущении и бездействии. Л. Н. ответил: – Идут они с радостью, потому что полны суеверий. Чем больше суеверий, тем больше энтузиазма; чём больше разума, тем меньше энтузиазма и тем больше спокойствия. И как это ни странно, но я предпочитаю все-таки веру, покоящуюся на разуме, чем вспыхнувшую на хворосте суеверия. Одна вспыхивает и потухает, а другая горит, понемногу, медленно и неизбежно сжигая и очищая все ложное и нечистое. Разговор перешел на бабидов. – Да, – сказал Л. Н., – Беха-Улла был настоящим пророком, вдохновленным и вдохновляющим. В нем чувствуется такая сила веры! Замечательно то, что он, выросши в замкнутом магометанском мире Персии, учит о единстве религии и проповедует объединение всех вер и народов. – Говорят, что и его сын, Абас Эфенди, такой же сильный, глубокий и вдохновленный, – вмешался я. – Нет, нет, уж это не то. В нем все бледно, повторяющееся. №4, с. 123-128 IV Очень часто, приезжая к Чертковым, Л.Н. приносил нам письмо Владимира Молочникова, сидящего в крепости за распространение его сочинений. – Какие это хорошие письма! – восклицал Л.Н. Приехал сын. Был в Лондоне, Париже, Петербурге. И больше ничего не мог рассказать, как только о погоде и модах. А вот Молочников в тюрьме, среди четырех стен, а почти каждый день пишет такие интересные письма. * * * За столом, после чая, Л.Н. рассматривал «Вестник Европы». По поводу юбилея Владимира Соловьева в журнале был помещен портрет писателя. Л.Н. долго и внимательно смотрел на него. – Прежде я не понимал Соловьева, – сказал он. Не мог понять, как это совмещаются в нем такая эрудиция и глубина мысли с Причастием, с Троицей. Но теперь мне это ясно. Кант говорит, что когда человек воспитан в известны суевериях, делается потом софистом этих же суеверий. Так же случилось и с Соловьевым. Воспитанный в православии, он стал софистом православия. Л.Н. любил часто пользоваться этой мыслью Канта. Восторгаясь силой, глубиной и значительностью индусских писателей Вивиканандой и Бабой-Барати, он говорил: «Жаль только одного. Передавая нам, западным народам, все то глубочайшее, до чего дошла их религия и философия, они стараются, вместе с тем, представить в лучшем свете и заблуждения, и суеверия своего народа. К ним хорошо применима прекрасная мысль Канта о том, что когда человек воспитан в известных суевериях, он становится потом софистом этих же суеверий». * * * Л.Н. читал в «Образовании» большую статью о синдикализме. – Вот как пишут! – возмущался он добродушно. – Читал, читал и ничего не понял. А вы ничего не знаете об этом движении? Я рассказал Л.Н. о сущности этого движения, насколько было мне известно. Л.Н. очень заинтересовался. На другой день, при встрече со мной он сказал: – А какой вы счастливец, Досев! – Почему? – Да потому, что поняли, в чем сущность синдикализма. А я вот пробовал второй раз читать и все-таки ничего не понял. И рассмеялся. Потом сказал серьезно: – А все-таки то, что вы мне говорили о синдикализме, очень и очень интересно. * * * – А вы знаете, что делается у вас в Болгарии? – спросил Л.Н., здороваясь с мной. – Нет, я не читаю газет – Вот счастливец, а я никак не могу освободиться от этой болезни. И Л.Н. рассказал мне что-то о политике Фердинанда, о революционных четах в Македонии. – Это удивительно – воскликнул он. – Какой-то немец, вполне чуждый болгарскому народу, властвует над ними, распоряжается его трудами, его жизнью… А какой он лживый, - закачал головой старик. – Подумайте, чтобы заслужить доверие народа, крестил своего сына. Помилуйте, надо ему лучше устроить теплое местечко. * * * Получил из Болгарии тяжелые вести. Общая мобилизация. Войска двигаются к турецкой границе. Народ толпами провожает солдат с плачем и проклятием. Ужас предстоящего охватил меня. Неужели война? Опять кровь, стоны, разорение! Я пошел, взволнованный, к Л.Н. – Что с вами случилось, - спрашивает он участливо. Я рассказываю и предлагаю ему написать обращение к болгарам, крикнуть им опомниться. – К вашему голосу прислушиваются, вас любят и уважают у нас. – Ни к чему это, – отвечает Л.Н. с участием в голосе. – Напечатают, прочитают, и так потонет все это в море газетного хлама. Стихию эту нельзя остановить никакими словами. Тут нужен более глубокий переворот в людях. Необходимо уяснение религиозного сознания народа. Сознание того, что все равны бред Богом, пред жизнью, что поэтому жизнь всякого человека и существа имеет одинаковую цену, что убивать или причинять страдание кому бы то ни было – грех, это этого нельзя делать. V Ездил на три дня к Наживину, во Владимирскую губернию. При первой же встрече Л.Н. спросил: – Ну, что нового у Наживина? – Он чувствует неудовлетворенность от своих религиозных представлений. – Чем же он недоволен? – Он говорит, что Толстые, Руссо, Вивекананды могут жить чистым деизмом, но я, но большинство не могут. Нам нужна помощь. Нам хорошо и легко верить в личного Бога, которого бы просил о помощи в тяжелые минуты своей жизни. Я думаю: вот умирает моя любимая дочка. Разве я буду сидеть спокойно возле нее, дожидаясь ее смерти или выздоровления? Нет, я не могу. Я буду просить кого-то, чтобы Он излечил ее. – Да, – сказал Л.Н., – можно молиться Богу, чтобы Он вылечил болеющую дочь мою, чтобы послал дождь моему огороду, – но разве это религия? Назовите это обрядами, Церковью, верой, как хотите, но только не религией. Религия, как ее понимали и проповедовали величайшие учителя человечества, – это наше отношение к Богу, как часть к целому, и вытекающее из этого отношения сознание родства и единства со всем окружающим… Чертков почти перебил Л.Н. – Видите, – я вам говорил, что Наживин все-таки чужд вам, что в его сочинениях нет той своей законченной духовной работы, которая должна отражаться в писаниях всякого писателя. – Нет, мне некоторые сочинения Наживина нравятся. Я чувствую его близким себе. * * * После ужина. Сидим за круглым столом, в правом углу столовой. Абажурная лампа разбрасывает вокруг себя свой мягкий свет. Татьяна Толстая рисует красками портрет М.А.Шмидт. Показала Л.Н. Тот засмеялся. – Нет, совсем не похожа. И нос не тот, и все выражение лица не то. Ты картошку лучше бы копала. Расхохотались. – Вот этого я никогда не понимала! – начала Софья Андреевна, не поднимая глаз с работы. Считают, что важно и хорошо работать, например, копать картошку. Почему? Труд такой неблагодарный. Я уж лучше пойду учиться музыке, пойду читать, пойду просто гулять. От черной работы человек только грубеет. Л.Н.все так же, закинув назад усталую голову, ответил: – Положим, ты этого никогда не понимала. А разве тому мужику, чью картошку едим мы, не хочется также гулять, читать и играть? В голосе его слышна была досада. Молчание. С.А. продолжает вышивать, спеша. Она всегда и во всем спешит. Человек деятельный и горячий. – Вот плохо: глаза уже начинают слабеть. Ох, не люблю я эту старость: негодность, зависимость. – Что вы, голубушка, – вмешивается своим слабым, болезненным голосом М.А., – как еще хорошо! Нет ничего лучше старости. Все проходит, все отходит. И на душе хорошо и легко. – Конечно, – вмешался Л.Н. – Лучший возраст тот, в котором ты находишься сейчас. Если бы мне предложил, чтобы я вернулся на 60, 40, 20, 10, 5 лет назад, даже на год – не захочу. Жить перед смертью – это так хорошо! Потом, повернувшись к М.А., он спросил: – Ведь правда, М.А.? – Батюшки мои! Как не правда! И в усталых, вялых глазах старушки, смотрящих на Л.Н. с такой любовью, было видно, что жить перед лицом смерти сознавая свой отход от плотской отделенности, когда отпадают все страсти, мутившие и мучившие тебя всю жизнь, - очень и очень хорошо. * * * Однажды Л.Н. сказал: – Прежде я отличал буддизм от христианства. Давал преимущество христианству. Теперь же думаю, что и буддизм, и христианство учат нас одному и тому же. Нет разницы в основном. VI Декабрь. Приехал из Сочи П.Картушин. Л.Н. расспрашивал его, как поживает там, в горах, Н.Сутковой, и что теперь интересует его. Картушин: – Он недоволен собой, считает необходимым иметь веру. Недоволен, что все у него рассудочное. Не хватает чувства. Лев Николаевич: – Ну что же, значит больше и не надо. Я читаю теперь Вивекананда: он говорит, что если мы смотрим на Бога через материю, то видим Его в окружающем мире, если смотрим на него через мысль – мы видим Его в мысли, если же, наконец, смотрим на Него через свой дух, мы видим Его духовным. Значит, каждый через все то, что ему дано, может видеть и видит Бога. – Поэтому мне и кажется, – возразил Картушин, – что нам надо делать усилия, чтобы развить в себе духовное начало. Развивая его, мы достигнем лучшего, более высшего богопознания. А для развития духовного начала, наверное, есть средства, и этим средствам должно помочь наше усилие. – Вот не и кажется что в этом и Ваша, и Суткового ошибка. Никаких не надо усилий для развития этого начала. Оно в нас совершенно. Только нужны усилия очищения. Этот свет одинаков в каждом из нас, одинаков и в падшем. Все дело в этой коре, закрывающей этот свет – в наших страстях. Молчание. Л.Н. спросил: – Сутковой кончил, кажется, университет? – Да. Вот в этом громадное, ужасное зло. Мне очень это ясно, какое зло богатство и обилие знаний. Меня всегда поражают ученые и профессора, что в них такая масса знаний, точно набитый мешок, а простых вещей не могут понять. И я к ним отношусь, как к детям. – Значит, Л.Н., все дело в любви? – Да, духовное начало во всем и во всех. Но я чувствую постоянно себя от него отделенным. А вот любовь дает возможность разрушить это ограничение. * * * Повез рано утром сундук с книгами в Ясную. Въезжая в парк, я вижу, как лениво вылезает из-за горизонта большое зимнее солнце. Было хорошее декабрьское утро. Старые березы обсыпаны кристалликами инея, блестящими красным огнем – точно это бесчисленные свечки на каких-то громадных елках. Свежо и тихо кругом. Только из-под полозьев слышно приятное, ободряющее скрипение замороженного снега. Надо мной небо чистое, сине-прозрачное. Лишь на востоке блуждает кучка причудливых облаков. Солнце отливает ярким золотом их красивые кудри. Из сада, навстречу мне, вышел Лев Николаевич. Он делал свою утреннюю прогулку. Поздоровались. У него тихое, бодрое, радостное лицо. – Какое хорошее утро! – воскликнул он. – Замечаете? Хожу, смотрю и не могу нарадоваться. Какую радость дает человеку природа! Только бы любить и понимать ее. И всматриваться в нее… Я очень люблю эти ранние прогулки. Все дома еще спят, везде тихо и так хорошо. Так хорошо, что не хочется даже умирать. И он просиял улыбкой. Я спросил Л.Н., как он себя чувствует. Недавно только он болел. – Ничего, хорошо. Снова принялся за работу. А что вы теперь пишете? – Все старое долблю. Пишу, как можно людям освободиться от тех цепей, которые они сами же сковали себе. Я думаю, что людям уже надоела эта моя долбня, но, пока они вслушиваются в мои слова, я не перестану говорить. Я не могу не говорить, не писать. * * * Приехал в Ясную, возвращаясь из Парижа, П.А.Сергеенко. Говорил о том восторге, с которым французы встретили возобновление эшафота. Кто-то заметил: – Вот они, эти передовые европейские нации: устраивают у себя овации палачам. Как ни огрубел наш народ после всей этой революционной и реакционной резни, но все еще он не дошел до того, до чего дошли «нежные», «свободолюбивые» французы. Заговорили о смертных….. в России. Много ужаса, жестокости, безумия. – Да, да, – сказал Л.Н., – один ужас. И есть только одно средства избавиться от этого кошмара: не видеть, не слышать всего этого – помереть. На лице Л.Н. было страдание. * * * Уехала в Москву Софья Андреевна. Мы спешим насладиться вдоволь Л.Н. и поэтому посещаем каждый вечер Ясную Поляну большими партиями. Л.Н. простой, веселый, ласковый. Все себя чувствуют у него свободно, радостно, что не бывает в присутствии Софьи Андреевны. В это время гостил в Ясной старший сын Л.Н. Сергей Львович. После чая, за разговором Л.Н. попросил сына сыграть что-нибудь на рояле. Начал играть. Кто-то попросил сыграть народное. С.Л. играл что-то веселое, хорошее. Заговорили о народной музыке: как она проста, хороша и доступна всем. Подошел к роялю Е.И. Попов. Играл всевозможные народные песни: болгарские, турецкие, персидские, индусские, китайские. Наконец, сыграл единственную песню какого-то башкирского племени, состоящую из нескольких только звуков, повторяющихся без конца. И все-таки было приятно слушать эту монотонную мелодию. В ней слышалась мертвящая тишина и однообразие степи. Е.И. рассказал, что когда этим башкирам бывает скучно, они собираются вместе на веселье, забрав с собою своего музыканта, который повторяет без конца эту однообразную песню на своем незамысловатом инструменте, а башкиры, присевши, слушают его по целым часам. – Да, да, – сказал Л.Н., – это преимущество народной музыки. Она выходит из сердца и поэтому влияет на сердце. Чувства у всех людей одни, вот почему нам близки излияния чувств и у китайца, и у индуса, и у башкира. Если он веселится, мы чувствуем его радость и радуемся вместе с ним; если же он плачет – мы также разделяем его горе. А наша музыка? Ее могут играть только «избранные», и только избранные понимают и чувствуют ее… Через две недели уехала опять С.А. Приехав к нам после обеда, Л.Н. сказал: «Ну, я сегодня буду еще и вечером у вас. Теперь могу вами вдоволь насладиться. Теперь я свободный человек», – и он рассмеялся добродушно. Была ли горечь в его смехе – не знаю. Но этот смех кольнул меня. Вечером, за ужином, я сидел около Л.Н. Поужинавши, он обратился ко мне: – А знаете, какие хорошие книги читал я эти дни? – Какие? – Неизвестный писатель Евгений Лозинский прислал мне две свои книги: «Что же такое, наконец, интеллигенция» и «Итоги парламентаризма». Очень сильны и хороши. В них он раскрывает всю суть социализма – суть, враждебная как духовным, так и материальным интересам рабочего класса. А какая громадная эрудиция у него! Хочу написать ему. Указывая ошибки и зло социализма, Лозинский неопровержим. Но как быть? Он не указывает и, как видно, не знает. Одно только видно – он не отрицает насилия. По поводу его, у меня были такие мысли. Если мы подходим к вырубленному лесу и хотим вспахать землю, чтобы вырос на ней посеянный хлеб, то прежде всего надо вычистить, выкорчевать все пни и, хорошо вспахавши, только тогда сеять. В противном случае ничего не получится. Из оставленных пеньков пойдут буйные ростки, которые заглушат наш посев. Пример с лесом я сравниваю с общественной реформой. Мы можем переделывать нашу общественную форму в другую, но если не вычистим прежде всего в личной и общественной жизни всякое насилие, какое бы ни было, это оставленное насилие пустит свои ростки и в новую форму человеческой жизни и заглушит всходы тех семян справедливости, равенства, которые мы посеяли в изобилии среди пеньков насилия. Когда убрали со стола, в зал явились плотники, строившие Черткову мастерские и сарай, недавно только уничтоженные пожаром. Их пригласил Чертков, чтобы и они присутствовали на нашем «веселом» собрании. Плотники, человек до 20, все владимирцы, молчаливые и угрюмые, явились и присутствовали, несмотря на всю жару, в своих тулупах и в полном молчании. Предлагали им раздеться, но они отказались. Играли в четыре руки Страхов и Попов. Кто-то попросил сыграть «Камаринскую». От ее бойких звуков так и подергивались у всех ноги. Лев Николаевич был весело возбужден. Он постукивал ногами и хлопал руками, озираясь на все стороны, не соблазнится ли кто поплясать. Но никто не выходил. Тогда Л.Н. подошел к плотникам и пригласил их поплясать. Те отказались. А звуки так и неслись, вызывая плясунов. Л.Н. вошел в азарт – бил в ладоши, тянул за руки сидящих плотников, но они все так же упирались и не выходили. –Эх, кабы я был молод, я бы показал вам, – говорил с укором Л.Н. Наконец, вышли плясать девушки. Л.Н. присел и смотрел на пляшущих; я сел около него. – Вот сидят там, как статуи, – сказал он, показывая на плотников. – А ведь что-нибудь да происходит у них под этими кожухами. И они скрывают все. До них не доберешься. Были потом разговоры, которые стерлись из памяти. Но одно нас радовало, и этого я не могу забыть – это радость Льва Николаевича. Он был весел и ласков, как ребенок, вышедший из-под надзора строгой няньки. Потом молодежь пела песни. Некоторые нравились Л.Н., другие нет. Пели длинную «политическую» песню, очень нравившуюся В.Г. – Нет, мне эта не нравится. Это плохая песня, – ответил Л.Н. на вопрос В.Г. – Почему? – спросил В.Г. – Она возбуждает злобу. А мне чем дальше, тем более чуждо стало все то, что полно злобы или просто вызывает ее. * * * В конце января я снова оставил Ясную – на этот раз поехал на Кавказ, к своим друзьям, чтобы поучиться у них физическому труду. Для меня становилась все несомненнее и несомненнее нравственная обязательность труда и бессмысленность и зло той жизни, которою я жил. И я делал эти усилия освобождения. Хр. Досев Продолжение этого материала планировалось в №5 за 1915 год, но не было пропущено цензурой, см. №5. 1.Потом эти отделы достигли числа 30 – дни каждого месяца. Х.Д.2.Два года спустя, сообщив Льву Николаевичу об.......... другого моего друга, я получил следующее от него письмо:
|
| Наверх |




 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































