 |
 |
|
||||
 РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
 ЭКСПЕРИМЕНТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЫ |
 ВЕГЕТАРИАНСТВО ВЕГЕТАРИАНСТВО |
 МЕХ МЕХ |
 СОБАКИ СОБАКИ |
 ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
 Видео Видео  Фото Фото  Книги Книги  Листовки Листовки
 Закон Закон  НОВОСТИ НОВОСТИ
 О
нас О
нас  Как
помочь? Как
помочь?
 Вестник Вестник
 СМИ СМИ
 Ссылки Ссылки  ФОРУМ ФОРУМ  Контакты Контакты  |

|
 ПОИСК НА САЙТЕ: ПОИСК НА САЙТЕ:
|
БИОЭТИКА - почтой |
| |
 № нашего кошелька: 41001212449697 |





|
Листовки: 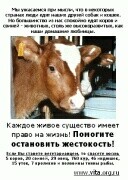
Формат doc. 180 Kb Плакаты: 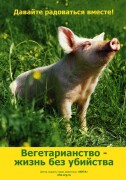
Формат jpg. 180Kb |
Вегетарианское обозрение, Киев, 1915 г.
ВО.4.1915, с. 134-138 К статье «К семидесятилетию Эдуарда Карпентера» («Вег. Обозр», авг.-сент. 1914) Вегетарианство было бы пустой сентиментальностью, если бы оно было первым и главным правилом жизни, а не второстепенным, выводным. Отношение к людям вообще стоит на первом месте, затем отношение к животным. И если наше «Вегетарианское Обозрение» мало говорит на своих страницах о недопустимости убийства людей, то, надо надеяться, это не потому, что оно считает более важным обсуждать вопросы гигиены и воздержания от убийства животных, а потому, что невозможность, греховность убийства людей само собою и вполне определенно подразумевается, так определенно, что об этом говорить и писать нечего… и можно заниматься разработкой вопросов второстепенной важности. Случай показал, что это так. Одна из сотрудниц «Вегетар. Обозр.», прочитав в моей статье об Э. Карпентере о несколько двусмысленном отношении Карпентера к войне, запросила меня, чтобы я, в свою очередь, переспросил Карпентера, с которым она не могла списаться за незнанием английского языка: «Неужели он находит нужным приветствовать тех, которые нарушают величайшую заповедь «Не убий» и творят столько ужасов?.. Это противоречит всему гармоничному устройству его». Слова, приведшие в недоразумение нашу сотрудницу, были слова Карпентера в его ответе на адрес, поднесенный ему ко дню семидесятилетия. Привожу их. «Как бы там ни было, возвращаясь назад к раннему периоду эпохи Виктории, мне теперь ясно, что если бы то, что тогда зарождалось в моей маленькой душе, было осуществлено всем обществом, вам не было бы нужды посылать мне специального письма или писем, которые я только что получил (как бы приятны они мне ни были), так как вам было бы понятно, что на том же основании подобные же благодарственные письма, полные признательности, нужно было бы адресовать столяру, батраку, коровнице и прачке из вашей деревни или солдату, который теперь сражается в рядах. Вам было бы понятно, что жизнь всех нас так организована и работа одного так основана на труде другого, что невозможно было бы придать такого значения одному, имя которого стало случайно известным, которого нельзя было бы придать тысячам и миллионам других без имени и неизвестных, которые, несомненно, содействовали ему в его работе. Мы, литературные люди, чересчур высокого мнения о себе и о своем значении». Переводя это место, оно показалось мне настолько не соответствующим тому, что я знал о Карпентере, что я решил списаться с ним и попросил разрешения пропустить несколько слов о солдатах. Я был уверен, что или я тут чего-нибудь не понимаю, или Карпентер не доглядел и будет раз исправить ошибку или разъяснит мне мое недоразумение. Он мне коротко ответил, что обдумал свой ответ, когда писал его, и не желает, чтобы что-либо было пропущено. Я был удивлен и хотел было совсем забросить затеянную статейку – затеянную, главным образом, из-за прекрасной мысли Карпентера в его ответе о «влиянии на людей», но, обдумав, решил, что ведь это не мой взгляд, а Карпентера, и мне не из-за его беспокоиться: всякий по-своему обсудит его. Статья была напечатана, и вот, к удовольствию моему, получаю из России запрос: действительно ли Карпентер думает так, как он выразился. Я написал Карпентеру, объясняя свое недоразумение и недоразумение сотрудницы. Он опять коротко и неопределенно ответил: «Боюсь, что я не могу как следует ответить на ваше письмо, но я пишу маленькую книжку о войне, которая выйдет в январе; надеюсь, что она несколько осветит мою точку зрения. Я во многом не согласен с Толстым. Мое отношение к войне вообще выражено, мне кажется, во втором диалоге “Bhagavat gita”». Удивительно, что даже такие способные люди, как Карпентер, не могут думать просто, без предвзятых мыслей. Образ Толстого помешал ему вникнуть в простоту моих слов. И образ этот, как я догадываюсь, очень и очень непохож на Льва Николаевича Толстого. Прежде я предполагал, что Карпентер, несомненно, отрицает насилие, так как говорит в своих писаниях о «внутреннем свете», о «мировой душе», и мне теперь очень хотелось выяснить возникшее недоразумение. Я с вниманием стал читать “Bhagavat gita”, отыскивая то, что хотел мне сказать Карпентер. “Bhagavat gita” – одно из древнеиндусских священных писаний. Это небольшая книжка, переведенная вновь с санскритского на английский язык известной теософкой Анни Безант. Пробежав введение А. Безант, я углубился в текст, надеясь там узнать все, что мне нужно. Однако я скоро был разочарован и даже раздражен. Текст изобиловал символическими именами и состоял из диалогов, из которых некоторые были произносимы безличными существами из области, недоступной ни чувствам, ни мысли человека. Были прекрасные сами по себе мысли, но их связь с общим смыслом и сам тот общий смысл ускользали, так что местами невозможно было понять, считается ли та или другая мысль истинной, или она подлежит опровержению. Второй диалог как будто решал, что Арджуне следует сражаться. Возвращаясь к предисловию, А. Безант прекрасно изучила книжку и в предисловии вкратце излагает ее содержание. «Это писание йоги, - пишет А. Безант. – Йога в буквальном смысле – единение и означает гармонию с божеским законом, соединение с божеской Жизнью, достигаемое подавлением всякой энергии, направленной на внешнее. Чтобы достичь этого, нужно достигнуть устойчивости, равновесия, так, чтобы ego, соединившись с Ego, не могло быть нарушено удовольствием или страданием, желанием или отвращением, или какой-либо из «пар противоположностей», между которыми колеблется взад и вперед невоспитанное ego. Сущность “Gita”, поэтому, умеренность и установление гармонии между всеми составными свойствами человеческой природы, пока они не будут в совершенстве вибрировать в том со Всем, с высшим Ego. Это цель, которую ученик должен иметь перед собой. Он должен научиться не увлекаться привлекательным и не поддаваться влиянию отталкивающего, не смотреть на то и на другое, как на проявление единого Бога, так, чтобы они были уроками для руководства поведения, а не оковами его неволи. В суете он должен пребывать в Боге мира, исполняя свои обязанности до предела своих способностей, не ради результата поступков, а потому что этого требует его долг. Сердце – его алтарь, любовь к Богу – пламя, которое горит на нем; всякая его деятельность, физическая и умственная, – жертва, приносимая на алтарь; и раз жертва принесена, о дальнейшем он уже не заботится. Чтобы сделать урок более выразительным, он был дан на поле битвы. Арджуна, князь-воин, оспаривающий титул своего брата, должен был разбить тирана, притеснявшего страну; его обязанностью, как князя, было сражаться за освобождение своей страны и восстановить порядок и мир. Чтобы сделать страну более обостренной, любимые товарищи и друзья были с каждой стороны, терзая его сердце конфликтом между личными привязанностями и долгом. Может ли он попрать родственные связи и убить тех, по отношению к которым он сознает долг любви? нарушить семейные связи – грех; оставить народ в грубом рабстве – грех; где же истинный путь? Нужно поступить по справедливости, чтобы исполнить закон. Но как убивать без греха? Ответом служит содержание книги: не имей личного интереса в делах; исполняй обязанность, возложенную на тебя в положением в жизни; пойми, что Ишвара в одно и то же время Бог и закон, творец, совершающий великую эволюцию, которая кончается миром и блаженством; будь един с Ним преданностью и тогда совершай долг, как долг, сражаясь бесстрастно и без желаний, без злобы и ненависти; такая деятельность не создаст оков, йога будет совершенна, и дух свободен». Вторая половина этого изложения выражает сущность второго диалога, на который ссылается Карпентер. Эту историю, как говорит А. Безант, можно понимать и символически, как выражение борьбы духа с соблазнами. По-моему, вовсе не ясно, чтобы все было так, хотя не буду спорить, если кому-нибудь кажется, что это так. Однако Карпентер совершенно определенно ссылался на прямой смысл этого диалога, желая этим разъяснить мне свое недоразумение по поводу фразы в его ответе. Если бы он имел в виду символическое значение диалога, то гораздо проще было бы ответить мне на первый мой запрос: благодарю вас, благодарю вас! Как я мог пропустить такую глупую фразу. Признаюсь, я был поражен, увидев в обнаженном виде основу нравственности Карпентера. Победить привязанности, победить страсти. Что же, по мнению “Bhagavat gita” и Карпентера, остается? Что это за долг? Долг, налагаемый жизнью, положением в жизни. Какой такой долг может наложить на человека жизнь помимо его сознания? У животных нет сознания, и они не говорят о долге, а просто следуют своему инстинкту, никого не спрашивая и ни с чем не соглашаясь. Человеку же сознательному, разумному всегда нужно прежде согласиться, чтобы требования, налагаемые на него кем-нибудь извне, справедливые и разумные, стали для него долгом. Один есть долг – долг нравственный, верность голосу совести. Ничто внешнее не может быть для человека долгом, если оно противоречит голосу его совести. Повиновение какому-нибудь внешнему требованию, противоречащему нравственному долгу, никак не означает, что такое повиновение тоже в согласии с внутренним долгом, т.е., с голосом совести, как хотят это соединить некоторые. И нужно совершенно отречься от нравственного долга, от совести, чтобы уничтожить это противоречие. Та обыкновенно и поступают. Что такое совесть? Какое-то смутное внутреннее точение, беспокойство одно. Требования же, налагаемые на человека извне, всегда ясны и определенны и особенно внушительны, когда они связаны с большим количеством людей. Но нравственный долг от этого не перестает напоминать о себе, и получается внутреннее раздвоение, сомнение, беспокойство. И в таком жалком положении оказался мягкосердечный Арджуна. Как мог Карпентер, такой почтенный, даровитый человек, не видеть пустоты и ничтожности этого диалога? Нельзя было заподозрить его в умышленном нежелании видеть нелепости такого взгляда. В чем же дело? Такие психологические загадки меня всегда беспокоят. Я долго допытывался, пока благая мысль не осенила меня, которую я поспешил изложить и послать Карпентеру. Мы мыслим понятиями, которые черпаем из внешнего, материального мира и из внутреннего, духовного. Понятия внешнего, материального мира, так сказать, мертвы, сами по себе они нас ни к чему не обязывают. К чему бы нас обязывали понятия человека, кошки, собаки, дерева, камня и т.д., если бы у нас не было внутреннего мира? Ни к чему. Понятия же внутреннего мира подсказывают нам, что следует с этими внешними понятиями делать. Но нужно уметь различать чувства телесные от чувств духовных, чтобы установить правильное отношение внутреннего к внешнему. Что же остается в человеке после того, как он победит свои телесные чувства, личные желания, свои страсти? Или ничего, пустота – и эта пустота прекрасна, как голубое небо – или чистое чувство любви. И никакого другого долга у такого человека нет и не может быть, кроме помощи людям, добрых дел и возвещения благой вести о благе любви. Если Арджуна, очистившись от страстей и желаний, все же продолжал считать себя князем и потому обязанным совершать поступки, противные его душе, то все это либо простая выдумка, а не воспроизведение действительности, либо Арджуна был в положении человека загипнотизированного, лишенного главного свойства разумного существа: способности распознавать реальное от иллюзорного. Карпентер не понял меня. Он ответил мне, что я прав, ставя любовь выше всего, но что нельзя ставить себе определенных правил и принципов, которые бы были действительны во всех случаях жизни. Прав и не прав в том, в чем прав! Очевидно, он не может ясно различать чистого божеского чувства любви от слова «любовь», которое можно вертеть и так, и эдак, а когда нужно, и совсем выбросить. В этом я окончательно убедился, когда стал читать его вновь вышедшую книгу «Оздоровление наций» (The Healing of Nations). Привожу маленькую выдержку из вступления. «Последующие размышления и записки, сделанные в течение первого периода настоящей войны и теперь собранные для публикации, не претендуют, как это будет видно читателю, на какую-либо полноту обозрения предмета и на законченность его изложения. Это прежде всего разбросанные мысли, вызванные огромной и запутанной драмой, свидетелями которой мы являемся; мне ясно, что их изложение не обошлось без противоречий и повторений. Истина то, что такие дела, как и все великие явления жизни человеческой, как любовь, политика, религия и т.д., не допускают в лучшем случае законченного определения взглядами и фразами. Они слишком сложны и велики для этого». И действительно, книга полна противоречий. Нельзя понять, где кончается простое мнение Карпентера и где начинается его твердое убеждение, и наоборот. И Карпентер, как видно, не считает это за несчастье, не ищет разрешения противоречий, не беспокоится, а считает это за мудрость. Мы не виноваты, если факты жизни противоречат друг другу, но наше мнение о них, наш взгляд на вещи не должен противоречить сам себе. Лучше остаться без всякого взгляда. Мы начали с выяснения отношения Карпентера к насилию, к допустимости или недопустимости его. Теперь мы можем привести несколько мест из его новой книги, в которых он более или менее определенно высказывается по этому поводу. Разбирая условия возникновения современной войны, Карпентер говорит, что немецкий народ сам по себе гениальный и добродушный, но что из-за небрежного отношения к политике им завладел и испортил его сухой и жестокий прусский милитаризм. И если немецкий народ не поймет этого и не освободится от него, то «очевидно, что союзникам не останется другого выбора, как продолжать войну до тех пор, пока германский милитаризм не будет выбит из колеи на много лет. Выбора нет, потому что Германия слишком ясно показала свою руку (если бы она взяла верх), угрожающую варварской силой всему миру. Эта угроза и подняла почти весь мир против нее. Из этого положения видно, что если бы Германия победила, то германский «ужас» распространился бы на весь мир, тогда как с победой союзников ни Англия, ни Франция, ни Россия, ни маленькая Бельгия, ни какая-либо другая страна не могла бы заявить своего окончательного права и превосходства. С победой последних мы освободимся от кошмарного притязания какой-либо одной нации стать мировой империей. Считая, что подневольный милитаризм служит в настоящее время классу капиталистов и правителей для завоевания рынков и поддержания классового различия, Карпентер говорит, что никакой свободомыслящий человек с демократическим темпераментом не может с этим согласиться. И дальше спрашивает: «С другой стороны, отрицая подневольный милитаризм, следует ли совершенно отказаться от мысли о «национальной службе?» «Я думаю, что нет», – отвечает он себе. Затем он выясняет, в чем, по его мнению, должна состоять эта «национальная служба». Прежде всего нужно обучать девочек и мальчиков гимнастике, потом милиционным обязанностям, лагерной жизни, обучать их какому-нибудь ремеслу стрельбе, первой помощи, чтобы в случае опасности или национальной нужды все могли оказать какую-нибудь помощь. В настоящее время охотников много, а способных оказывается мало, особенно среди богатых, избалованных классов. Их желание помочь общему делу выражается главным образом в том, что они покупают других вместо себя. Из всего этого видно, что раз у человека нет твердого и ясного понимания смысла своей жизни, при котором становится невозможной даже мысль о насилии, то тут открыт путь спекуляций и для Вильгельма, и для немецких ученых, и для социалистов и демократов, и для обыкновенных смертных, и для Карпентера в частности. И так как каждый человек видит людей, их поступки и чувствует, как они отзываются на нем, но не видит их мыслей, их непоборимых душевных состояний и, наоборот, видит только свои мысли, знает свои трудности, но не видит себя и не знает, как его поступки отзываются на других, то и насилие одних людей над другими не прекратится до тех пор, пока они не поставят в основу разрешения общественных недоразумений отрицание самого насилия в какой бы то ни было форме. К этому человек неизменно приходит при разумном, духовном понимании жизни. «Познаете истину – и истина сделает вас свободными». Л. Перно 29/IV 1915, Англия
|



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































