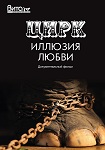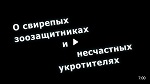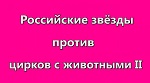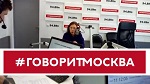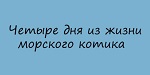|
ЖИЗНЬ ОДНА
(Об убийстве живых существ)
В. Чертков
ИЗДАНИЕ «ПОСРЕДНИКА»
№ 992
МОСКВА
ТИПОГРАФИЯ К. Л. МЕНЬШОВА
Арбат, Никольский пер., д. 21
1912
СОДЕРЖАНИЕ:
ГЛАВА VI
Несмотря на все сказанное, я далек от того, чтобы воображать, что этим исчерпан вопрос о полном воздержании от убийства. Если мы вглядимся поближе в те выводы, к которым были логически приведены, то увидим, что, как они сами по себе ни справедливы, однако, они не только окончательно не разрешают поднятого вопроса, но оставляют нас в состоянии внутреннего раздвоения и недоумения.
Сознание человека, как всем известно, складывается из двух основных элементов: мысли и чувства, и ни тому, ни другому нельзя отдавать преимущества, ибо правильная деятельность сознания обеспечивается их гармоническим взаимным отношением. Сердце и голова должны у человека действовать сообща, взаимною проверкою поправляя или подтверждая друг друга. В вопросах, связанных с обоими этими душевными проявлениями, только такое рассудочное заключение можно считать твердо установленным, которое подтверждается также и указаниями нашего сердца; и только такое влечение сердца заслуживает полного доверия, которое не противоречить требованиям рассудка.
При этом необходимо, конечно, помнить, что и сердце и голова у человека несовершенны и потому требуют большой осторожности в их применены к наиболее сложным и серьезным вопросам жизни.
Оглядываясь с этой точки зрения на изложенное мною отношение к убийству живых существ, я замечаю, что приведен был к нему преимущественно рассудочным путем. Правда, выставленное мною исходное положение о нравственной незаконности вообще всякого насильственного отнятия жизни основано на требованиях не только ума, но и сердца. Сознание того, что не следует без необходимости убивать животных, как это делают, например, для еды или для научных целей, вызывается не только рассудочными соображениями о справедливости, но и непосредственной жалостью к живым существам. Но когда дело доходит до признания нравственной незаконности убийства ради человеческого блага волков, поедающих домашнюю скотину, вшей и тли, уничтожающих овощи и плодовые деревья, крыс, разводящих чумную заразу, ядовитых змей, клопов и т. п., то к такому крайнему заключению нас приводит один только холодный рассудок, доведенный до последней степени его логического применения. Никаким непосредственным чувством любви или жалости к клопам или крысам мы при этом не руководствуемся. Напротив того, прислушиваясь к голосу нашего сердца, мы испытываем глубокий непоборимый протест против требования жалеть и щадить этих для нас отвратительных и зловредных тварей, в ущерб здоровью, блогоденствию и даже жизни наиболее близких нам человеческих существ.
«Все, что вы говорите о неубийстве животных, может теоретически быть и вполне логично, — скажет любая мать, — но, тем не менее, когда вы меня уверяете, что я поступаю безнравственно, убивая бешеную собаку, бросившуюся на моего ребенка, или подползающую к нему ядовитую змею, то я возмущаюсь от глубины души, все мое существо протестует, и я, несомненно, сознаю, что вы неправы, как бы ни была остроумна и неопровержима та головная теория, которая привела вас к такому бесчеловечному выводу!» Приблизительно то же самое скажет почти всякий, лишь только дело коснется защиты жизни животных в ущерб человеческому благополучию.
И нельзя не сознаться в том, что этот протест чувства против теории содержит в себе значительную силу убедительности. Если где кроется действительно трудно-опровержимое возражение против полного применения заповеди «не убий», то никак не в раньше разобранных мною рассудочных доводах о ее практической нецелесообразности, а единственно в этом непосредственном крике возмущенного человеческого сердца, вызванном ужасающим противоречием между рассудком и чувством в этом вопросе.
Вспоминая весь ход мыслей, приведший меня к тому безусловному отрицанию всякого убийства, которое так возмущает наше чувство, я, при всем желании, не могу найти ни малейшего изъяна в логической нити моего рассуждения. И потому мне невозможно признать, что в этом случае ошибается мой рассудок. Следовательно, ошибается здесь, вероятно, чувство. Постараемся же разобраться в том, какая главная причина лежит в основе этого возмущения чувства.
Я думаю, что таких основных причин две. Одна из них та, что человек так привык смотреть на всех остальных животных, как на существа, предназначенный для служения ему одному, что он не может не возмущаться перед полным приравниванием своего права на жизнь к праву на жизнь самых ничтожных животных и насекомых. Другая же причина заключается в том, что в этом крайнем требовании воздержания от убийства даже насекомых и червей человек видит слишком непримиримое несоотвтствие с тем нравственным уровнем, на котором он сам стоит; и безнадежность этого вопиющего противоречия, в котором он по чистой совести винить себя не может, его поневоле возмущает.
Противники полного воздержания от убийства животных ссылаются, как мы раньше видели, на то, что нужно, будто бы, прежде всего иметь в виду благополучие человека, и что те животные, чьи интересы не согласуются с выгодами человека, должны исчезнуть с лица земли. Такое представление о том, что все живые существа предназначены для служения одному только человеку, и что поэтому человек имеет право, когда только ему вздумается, жертвовать их жизнью в свою пользу, имеет до сих пор почти всеобщее распространение, несмотря на то, что это одно из самых грубых заблуждений, когда-либо овладевавших человеческим сознанием.
В народившейся за последние десятилетия, так называемой «гуманитарной» литературе, ратующей, между прочим, за «права животных», высказывается, правда, все чаще и громче тот взгляд, что жизнь животных имеет свой самостоятельный смысл, свою независимую ценность, совершенно отдельно от интересов человечества.
Иначе и быть не могло. Лишь только люди стали вникать в свое отношение к животным, простой здравый смысл должен был натолкнуть их на эту слишком очевидную истину. Стоит только летом тихо полежать одному в лесу и внимательно вглядеться в то, что происходит вокруг, среди всей той органической жизни, которая кишмя кишит на деревьях и в кустах, в траве, в воздухе, на земле и под землей, в каждой лужице воды, —для того, чтобы наглядно убедиться в том, что вся эта жизнь, разлитая по всему земному шару, существует никак не для человека с его эгоистическими человеческими интересами. Стоит только немного поразмыслить для того, чтобы понять, что все эти полевые и лесные звери и зверки, все эти птицы и бабочки, букашки, комары и муравьи, лягушки, головастики и червяки, — что весь этот необъятный сонм животрепещущих и жизнерадостных существ не имеет с человеком ничего общего, кроме того, что и они живут на земле так же, как и он.
Но так глубоко заседают в человеческом сознании старые предрассудки, что даже те наиболее просвещенные передовые мыслители, которые в настоящее время заступаются за права животных, — даже и они все еще считают, что, лишь только интересы человека того требуют, то он, само собою разумеется, имеет неоспоримое право насильственно отнимать жизнь у животных.
Что может быть эгоистичнее, несправедливее и жесточе, — скажу прямо: что может быть нахальнее и циничнее такого отношения человека ко всем остальным существам?! И нисколько не смягчает дела обычная отговорка о том, что человек при этом только следует всеобщему закону борьбы за существование, который присущ и самим животным. Действительное преимущество человека над животными заключается вовсе не в том, что он умеет лучше их пользоваться физическими приспособлениями для порабощения и убийства не только животных, но и себе подобных людей. Человек выше животных не тём, что он умеет одним взрывом динамита погубить тысячи своих братьев. Человек выше животных только тем, что ему доступно духовное сознание, раскрывающее ему единство всего живущего. А потому проявлять свое истинное достоинство он призван уважением к чужой жизни, хотя бы и менее развитой и богатой, нежели его собственная, и умением подавлять в себе эгоизм не только личный, семейный и национальный, но и эгоизм человеческого рода.
Достаточно нам, хотя бы только в теории, признать именно в этом истинное назначение человека для того, чтобы освободиться от одной из главных причин, вызывающих в нас такой возмущенный протест против принципа безусловного воздержания от убийства животных. Мы можем сознавать себя далеко еще не готовыми осуществить на деле наиболее крайние требования этого принципа; но, памятуя о нашем истинном назначении, мы, несмотря на наше собственное несовершенство, не станем, по крайней мере, утверждать, что требования эти ошибочны и достойны порицания.
Но в том-то и дело, что для того, чтобы стать на эту точку зрения, прежде всего, необходимо быть готовым смотреть правде в глаза и признать свое собственное несовершенство, свою нравственную слабость и несостоятельность. А самолюбие и превратное представление о человеческом достоинстве мешает этому. Тому, кто привык сознавать, что он верен своим убеждениям и на деле исполняет то, что говорить, слишком неприятно и трудно допустить основательность таких нравственных требований, которых он еще не в силах осуществить. В этом оскорбляющем его самомнение несоответствии новых для него требований с тем, что он в состоянии и готов исполнить, и кроется другая основная причина его возмущения перед мыслью о полном воздержании от убийства животных.
Для защиты себя от необходимости признать свою несостоятельность люди давно уже выработали себе рассуждения, оправдывающие их собственное положение и обличающие сторонников слишком «крайних» нравственных принципов. «Смотрите на него, — говорят они, — как высоко он забирает в теории и на словах, и вместе с тем как постыдно противоречит его собственная жизнь тому, что он исповедует. Мы, по крайней мере, что говорим, то и делаем. Звезд с неба не хватаем, но зато и не отступаем на деле от своих убеждений».
Но беда в том, что так называемые «последовательные» люди, жизнь которых соответствует их убеждениям, по этой самой причине не могут идти вперед, но вынуждены вечно топтаться на месте. Главная сила, побуждающая человека улучшать свою жизнь, заключается в мучительном сознании несоответствия своего поведения с требованиями своей совести. Если же человек низводит эти требования до уровня своего действительного поведения, то этим он лишает себя всякого побуждения совершенствовать свою жизнь.
Душевная природа человека так устроена, что он способен представлять себе в своем сознании несравненно высшую степень совершенства, нежели в состоянии на самом деле осуществить в своей жизни. А потому на те новые нравственные требования, которые постоянно развертываются перед духовным взором мыслящего человечества, нельзя смотреть, как на свод сухих правил, долженствующих немедленно быть приведенными в исполнение, независимо от общего внутреннего состояния и наличных душевных сил того или другого человека, логически вынужденного признать теоретическую справедливость этих требований. Такое формальное отношение к нравственным истинам вызывает в людях упадок, вместо подъема духа, ввергая их в состоите безнадежного удручения, если не отчаяния, перед сознанием своей несостоятельности. Или же оно возбуждает в них то самое возмущение, о котором идет речь.
Раскрывающаяся человеческому сознанию наивысшие нравственные требования, часто поражающие своей неожиданной крайностью, являются выражением той степени совершенства, которая стала доступна человеческому отвлеченному пониманию. К осуществлению этих требований всякий, признавший их справедливость, искренний служитель истины естественно будет всеми силами стремиться. Но действительно осуществлять их в своей жизни он, конечно, будет только по мере своих крайних сил. Человек дорастает лишь постепенно, иногда только к концу своей жизни, а чаще всего никогда вполне не дорастает до возможности претворить в плоть и кровь действительной жизни наивысшие требования своего духовного разумения. Но как для того, чтобы растение тянулось к свету, необходимо, чтобы существовал тот источник света, который его притягивает, так и для того, чтобы поведение человека сколько-нибудь совершенствовалось, необходимо чтобы в его сознании существовал тот недосягаемый идеал, к которому он неизбежно будет стремиться.
Как раз в то время, когда я кончал эту статью, мне пришлось на деле решать очень щекотливый вопрос, связанный с тем самым предметом, который я здесь разбираю. В одно из помещений на моем хуторе посетители нанесли клопов, которые размножились до такой степени, что постоянные жители этого домика стали уходить ночевать в другие места. Единственное средство сохранить постройку, как жилое помещение для тех, для кого она предназначалась, заключалось в том, чтобы истребить клопов. Мне было очень неловко перед самим собой. Своей работой над этой статьей я только что самым неопровержимым для себя образом подтвердил свое внутреннее убеждение в том, что никаких живых существ никогда не следует убивать, и вместе с тем я чувствовал, что в данном случае не осилю положения. И действительно, как ни было мне стыдно, но я поручил вывести клопов для того, чтобы опять обратить домик в жилое помещение для людей. Об этом случае из моей личной жизни упоминаю здесь, во-первых, для того, чтобы не лицемерить перед читателем; а во-вторых, чтобы повторить, что никакие свои личные слабости, никакие проявления своей личной непоследовательности не должны и не могут умалять истину. Хорошо, — ты слаб, ты малодушен, эгоистичен, жесток, — говорю я, краснея за себя, — все это доказывает твою личную несостоятельность, как доказывает ее и вся обстановка твоей жизни, построенная на тех самых началах, которые в сознании твоем ты отрицаешь. Но то, что твоя маленькая, ничтожная личность не в состоянии или не желает осуществить правду на земле, — нисколько не доказывает того, что правды нет, или что правда не может быть осуществлена людьми более сильными и добрыми, чем ты».
Нет никакой надобности ни возмущаться, ни падать духом перед несоответствием между наиболее крайними требованиями нравственного закона и тем, что мы в данную минуту чувствуем себя в состоянии исполнить. На это несоответствие нам следует смотреть только, как на необходимое условие, обеспечивающее возможность нашего движения вперед. И всю испытываемую нами тяжесть от этого противоречия мы должны направлять на увеличение наших усилий к осуществлению тех нравственных требований, исполнить которые мы в состоянии.
|


 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕГА́НСТВО
ВЕГА́НСТВО  МЕХ
МЕХ СОБАКИ и КОШКИ
СОБАКИ и КОШКИ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Видео
Видео
 Фото
Фото
 Книги
Книги
 Листовки
Листовки
 Закон
Закон
 НОВОСТИ
НОВОСТИ
 О нас
О нас
 Как помочь?
Как помочь?
 Вестник
Вестник
 СМИ
СМИ
 Ссылки
Ссылки
 ФОРУМ
ФОРУМ
 Контакты
Контакты

 ПОИСК НА САЙТЕ:
ПОИСК НА САЙТЕ:









 ВАЖНО!
ВАЖНО!