|
МИФЫ ОБ ОПЫТАХ НА ЖИВОТНЫХ
Бернард Рамбек
© Bernhard Rambeck, Mythos Tierversuch. Eine wissenschaftskritische Untersuchung
6., erweitete Auflage
© Перевод на русский язык: Анна Кюрегян, Центр защиты прав животных
«ВИТА», 2018
Постоянная ссылка: http://www.vita.org.ru/library/philosophy/mify-ob-opytah.htm
Об авторе: доктор Бернард Рамбек (Бернхард Рамбек, Bernhard Rambeck), директор Биомедицинского отделения Общества исследования эпилепсии, доктор естествознания, Германия
Зачастую всеобщая вера, вера, от которой никто не свободен, или от которой можно освободиться только посредством колоссальной мобилизации фантазии или мужества, в последующие века становилась настолько неприкрыто абсурдистской, что единственная сложность состоит в понимании того, как вообще такая идея могла показаться правдоподобной.
Джон Стюарт Милль (1806-1873)
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие
Глава 1. Мифы об опытах на животных. Разоблачение
Миф 1. Медицинские знания имеют в своей основе опыты на животных
Миф 2. Опыты на животных обеспечили возможность бороться с болезнями и тем самым повысили продолжительность жизни.
Миф 3. Без опытов на животных медицинские исследования невозможны.
Миф 4. Опыты на животных необходимы, потому что самые серьезные болезни до сих пор неизлечимы.
Миф 5. Опыты на животных необходимы для борьбы с новыми болезнями, угрожающими человеку.
Миф 6. Опыты на животных позволяют оценить опасность новых медикаментов, вакцин и химических веществ
Миф 7. Опыты на животных не причиняют вреда людям.
Миф 8: Животные не страдают при проведении экспериментов
Миф 9. Только специалисты могут оценить необходимость, заменимость и значение опытов на животных
Миф 10. Отмена опытов на животных невозможна
Глава 2. Исследования эпилепсии и опыты на животных. Пример
Глава 3. Исследования СПИДа и опыты на животных
Глава 4. Как опыты на животных связаны с охотой на ведьм?
Глава 5. Отказ от вивисекции: пути, возможности, перспективы
Посвящается бесчисленным кошкам,
которые были принесены в жертву науке
в нашем исследовательском институте
Глава 5.
Отказ от вивисекции: пути, возможности, перспективы
Описание
В этой главе будет предпринята попытка проанализировать сегодняшнюю ситуацию с экспериментами на животных и антививисекционным движением. Я здесь сознательно использую слово «вивисекция», чтобы четко показать предмет нашей дискуссии: тут речь идет об экспериментировании на живых животных. Для термина «вивисекция» совершенно не имеет значения то, получает ли животное наркоз или нет. Животное под наркозом тоже живет. В конце концов, для идеи смерти предварительное получение или неполучение наркоза животным не играет никакой роли. Это понятие в самом прямом смысле касается многих опытов из области экспериментальной хирургии. Во многих других экспериментах повреждения, травмы и физиологические нарушения создаются не ножом, но столь же разрушающим образом, при помощи химикатов или облучения. Таким образом, нам надо придерживаться понятия «вивисекция», в том числе и тогда, когда экспериментаторам это не подходит.
С одной стороны находятся активные противники вивисекции, преимущественно непрофессионалы, но все в большей степени также врачи и ученые. С другой стороны – упрямые защитники опытов на животных, главным образом ученые и работники индустрии. А между ними – масса не интересующихся и равнодушных людей. Политики и другие носители права принятия решения чаще всего не имеют своего мнения. Церковь этой темой не особенно интересуется, потому что, согласно традиционным теологическим представлениям, животные не имеют души. Соответственно, считается, что они, возможно, способны чувствовать боль, но не способны к страданиям в человеческом смысле.
Какова мотивация противников вивисекции, что движет ее сторонниками? Понятие «защита животных» нам здесь больше не поможет, потому что в любой комиссии по этике всякий вивисектор понимается как защитник животных. Кроме того, именно традиционные зоозащитные организации не выражают особой заинтересованности в том, чтобы заниматься темой экспериментирования. Более того, наше так называемое законодательство в защиту животных не регулирует того, что должно было бы регулировать, а именно, последовательную защиту животных от человека (ср. H.Wollschläger, Tiere sehen Dich an. Die Republik, No. 79-81, Salzhausen-Luhmühlen, 1987).
Мотивация противников вивисекции имеет прежде всего этическую направленность, а также научную. Ниже я резюмирую наиболее распространенные соображения.
Отрицательное отношение к опытам на животных из этических соображений:
Животные тоже имеют право на жизнь без мучений и в естественных условиях. Внимание к жизни, в том числе к жизни животного, должно быть самой важной заповедью медицины и науки. Человек не имеет права ради медицинских, научных или коммерческих соображений обрекать на страдания и смерть неимоверное количество животных.
Отрицательное отношение к опытам на животных из методологических соображений.
Опыты на животных не позволяют ни исследовать истинные причины человеческих болезней, ни привести к излечению. Поскольку большинство человеческих болезней в мире животных попросту не существует, их зачастую приходится вызывать искусственно, причем грубой силой. Так называемая «модель» болезни на подопытном животном, за исключением некоторых симптомов, имеет очень мало сходства с человеческой болезнью – последняя чаще всего обусловлена психическими, социальными, генетическими, диетическими, экологическими факторами. Эти факторы, тем более во взаимодействии, на животных воспроизвести нельзя. Поскольку между человеком и животным к тому же существуют многочисленные различия в физиолого-органической и психической сферах, результаты опытов на животных не могут обеспечить надежных выводов, применимых к человеку.
Отрицательное отношение к опытам на животных из медицинско-философских соображений.
Опыты на животных способствуют тому, что медицина все больше отходит от своей непосредственной задачи, а именно, профилактики и исцеления болезней, и удовлетворяется устранением симптомов. Опыты на животных не могут содействовать нахождению истинных причин болезней, психосоматических взаимосвязей и сущности процесса исцеления. А когда медицина, имеющая перед собой цель лечить болезни и поддерживать жизнь, способствует ее разрушению, то мы имеем дело с внутренним противоречием.
Отрицательное отношение к опытам на животных из научных соображений
Когда животное низводится до уровня одноразового измерительного инструмента и подвергается смертельным истязаниям в экспериментах, то принципиальные идеи и идеалы научного мышления и исследования оказываются растоптаны. Свобода науки не может состоять в том, чтобы к чувствительным существам относились, как к неживым объектам и подвергали их безжалостной эксплуатации. Наше стремление к расширению знаний должно заканчиваться там, где для их получения возникает необходимость в страданиях, пытках и смерти. Только новое целостное мировоззрение, согласно которому, человек является частью природы, а не безграничным властелином над ней, может решить смертельно опасные проблемы нашего времени.
Рядом с этими соображениями против опытов на животных мог бы находиться существенный фактор, который заключается просто в сострадании. Мысль о страданиях, выпадающих на долю подопытных животных, толкает антививисекционистов на баррикады. Еще одна точка зрения, подразумевающая отказ от экспериментов, состоит в морально-этических или религиозных позициях, которые не приемлют жестокой эксплуатации живых существ для пользы человека. Их протест направлен прежде всего против жестокого использования живых существ из соображений того, что они считают недопустимым убивать Божье создание. Кроме того, они указывают, что пятая заповедь называется «Не убий», а не «Не убий человека», и поэтому ее следует распространять на животных.
Какова же мотивация сторонников опытов на животных? Я не принимаю аргумент, вновь и вновь приводимый экспериментаторами, что они якобы делают их из сострадания к больным людям. Если бы речь действительно шла о сострадании к людям, то этим гражданам следовало бы скорее работать в организациях, которые борются с факторами, вызывающими болезни, такими как наркотики, неправильное питание, лихачество на дорогах, все большее загрязнение окружающей среды, ведь именно в них состоят истинные причины наших массовых болезней. Не говоря уже о том, что как раз врачи, которые изо дня в день в больницах соприкасаются с человеческими болезнями и бедами, чаще всего с подопытными животными не работают. И наоборот, большинство экспериментаторов в индустрии и науке уже давно утратили прямой контакт с пациентами. Я предполагаю, что наибольшая мотивация большинства вивисекторов к экспериментированию на животных состоит всего лишь в том, что это их профессия. Я знаю ученых-экспериментаторов, которых данный метод не устраивает, но они не могут оторваться от этой системы из-за глубоко сидящих страхов. Они научились вивисекционным методам, переняли их либо дали им дальнейшее развитие и уже не могут представить себе свою работу и саморазвитие без этой системы. Для них опыты на животных – это фундамент, которого их пытается лишить антививисекционное движение.
Но многие врачи и ученые выступают в их защиту, самостоятельно в них не участвуя. Большая часть сторонников видит в антививисекционном движении фундаментальное вмешательство сумасшедших не от мира сего, изменение устоявшейся системы здравоохранения, которую следует всеми средствами защищать из соображений самосохранения. При такой обороне уже одна только мысль об аргументах противников считается предательством, и ее по возможности избегают. В этой странной ситуации даже по-настоящему образованные люди вынуждены защищать самые бессмысленные опыты на животных, которые бы, несомненно, отвергались ими при честном размышлении.
И потом есть еще такие сторонники опытов на животных, которые имеют прямую или косвенную экономическую связь с фармацевтической индустрией, а последняя не представляет себе жизни без вивисекции, и отмена экспериментирования, в ее понимании, равнозначна экономической катастрофе. Как фармацевтическая индустрия будет производить поиск новых лекарств, когда она уже давно утратила контакт с больными или же может излечить его только через оплаченных врачей? Акционер, который стоит за фармацевтическим предприятием, инвестирует свои деньги не из гуманистических, а из экономических соображений, и, соответственно, опыты на животных интересуют его с точки зрения прибыли. Менеджер, который определяет направление предприятия, имеет задачу удовлетворять потребителей, соответствующим образом вести хозяйство и делать всевозможное, чтобы товары хорошо продавались. Методы получения этой продукции могут иметь второстепенное значение, хотя из экономических соображений не должны сильно подрывать репутацию их отрасли.
Движение противников вивисекции, в отличие от сторонников, не представляет собой сплоченного фронта, а, если выражаться мягко, разбито на много групп, которые боятся соприкасаться друг с другом. Почему это происходит? Я думаю, тут определенную роль играют разные обстоятельства. Одно из них состоит в том, что люди имеют очень разную мотивацию. Противники опытов на животных из морально-этических соображений часто не могут добиться согласия с антививисекционистами, ставшими таковыми из чисто рациональных соображений. Дело доходит до того, что среди противников экспериментирования нет единства относительно пути к окончательной отмене опытов на животных. В то время как одни настроены на длительный поход по инстанциям, другие больше не готовы бездеятельно принимать узаконенные мучения животных. Антививисекционными называют как те организации, которые акцентируют внимание на широкомасштабное сокращение числа опытов на животных, так и те, которые считают необходимым прямо сейчас полную их отмену. В результате главным образом принципиальные антививисекционисты оправданно боятся того, что сторонники движения трех R (3R – Reduce, Refine, Replace, то есть, сокращение, совершенствование, замена), стоящие за индустрией, внедрятся в движение ради подрывной деятельности и вызовут его разложение.
С другой стороны, кажется, что сторонники опытов на животных образовали единый фронт. Этот факт объясняется тем, что они держат оборону, и поэтому принципиальное расхождение в интересах стирается. Франкфуртское Общество за здоровье и исследования возникло на основе союза университетских профессоров, проводящих опыты на животных, с фармацевтической индустрией. И вместе с тем этот фронт был вынужден вследствие разных интересов смягчиться. Фармацевтическая индустрия прежде всего из коммерческих интересов, но также из соображений улучшения своего все более отрицательного имиджа должна быть готова как минимум сокращать количество используемых животных. И то, что индустрия в большой мере поддерживает движение за три R, показывает эту тенденцию. Фармацевтическая индустрия, по-видимому, была бы склонна отказаться от вивисекционной системы, если бы она могла найти более дешевый и более приемлемый для общественности метод для промышленного производства медикаментов. В случае с экспериментами в учебном процессе обстановка кажется более сложной, потому что здесь вивисекция представляет собой вовсе не методы, а содержание исследований. Кроме того, тем отделениям медицинского или ветеринарного вуза, которые до сих пор работали на вивисекционной системе, уже из-за одной только нее имеют большие сложности с переходом к работе, не предусматривающей использование животных. С другой стороны, я подозреваю, что экспериментальная система в вузах более чувствительно реагирует на этическо-моральные основы и постепенно меняющиеся установки, связанные с системой «человек – природа». В качестве индикатора я вижу все большее сопротивление студентов-медиков вивисекции, оно отражает все больший упадок опытов на животных во многих университетах. В некоторых случаях студенты через действия юридического характера добились возможности не участвовать в опытах на животных.
Внутреннее смягчение внешне монолитного фронта сторонников экспериментов на животных происходит также ввиду одного очень важного фактора:
Не только неспециалисты, но также врачи и ученые все больше задаются вопросом о неэффективности традиционной техномедицины. Несмотря на безмерно раздутый исследовательский аппарат, количество хронически больных в индустриальных странах возрастает. Невзирая на колоссальное количество вивисекционных исследований, смертность от рака не меняется и составляет 24 %, от сердечно-сосудистых заболеваний – более 54%, число больных, страдающих аллергией, в последние десятилетия возросло, подобно взрыву, в области болезней цивилизации, ответственных за 80-90% случаев смертей, прорыва не предвидится. Вновь и вновь торжественно анонсируемые прорывы в области рака или СПИДа не наступают или же оказываются разочарованием.
Дело доходит до того, что наша система здравоохранения постепенно становится неоплатной. Опыты с животными занимают все большую долю в этих сжимающихся тисках расходов. По сведениям фармацевтических компаний, стоимость разработки нового препарата для внедрения на рынок составляет от 200 до 300 миллионов дойчмарок, и значительная часть этой суммы приходится на работу с животными. Стоимость новых методов оперирования, ставших возможными якобы только после предварительных экспериментов на животных, например, пересадки сердца, уходит в такую заоблачную высь, что их можно выполнять только в немногих медицинских центрах, и поглощают бюджет, доступный для других массовых мероприятий.
Сегодняшняя технократическая медицина со всеми ее препаратами и средствами, проверенными на животных, не сдерживает своих обещаний!
Результат: все больше людей обращаются к альтернативным методам лечения. Все больше людей чувствуют, что современная медицина бросает их в беде, и обращаются за помощью к натуропатам, гомеопатам, специалистам по акупунктуре и другим приверженцам так называемых аутсайдерских методов. Это происходит, невзирая на то, что расходы оплачиваются обычно не из больничной кассы, от пациентов чаще всего требуется изменить образ жизни, а таким врачам, в отличие, например, от фармацевтической индустрии, запрещают делать себе рекламу.
Все больше людей стремятся помочь себе самостоятельно, переходят на вегетарианское питание, причем делают это не по рекомендации официальной медицины, относящейся к нему скептически, а так как они все более четко понимают, что наша чисто материалистическая медицина не лечит, а только перемещает или тормозит разные симптомы болезней при помощи химических методов, испробованных на животных, либо хирургическим путем.
Эти факторы приводят к тому, что все слои населения воспринимают вновь и вновь повторяемые слова экспериментаторов о больших успехах современной медицины со все большим скепсисом и начинают сомневаться в предположительной пользе и необходимости опытов на животных.
Поскольку жестокость вивисекции в наши дни становится все более очевидна, и общественность больше и больше узнает о мучениях подопытных животных, усиливается давление на политиков, точнее законодателей, чтобы те предпринимали контрмеры.
Как же теперь реагируют представители законодательства, а также вивисекционная индустрия и наука на требование обеспечить конец пыткам? Давно испытанным образом: они пускают нам пыль в глаза!
В 1987 году в Германии вышел новый закон о защите животных, и для успокоения общественности в текст закона введено слово «живые существа» (Mitgeschöpf), там появляются комиссии по защите животных, но в остальном все остается по-прежнему. Он запрещает разные опыты, которые либо вообще относятся к другому направлению (например, для разработки или проверки оружий и амуниции или для производства декоративной косметики, ср.: K.Brandauer, Das neue Tierschutzgesetz – ein grundlegender Fortschritt für den Tierschutz? Neue Juristische Wochenschrift 32: 1952-1957, 1988), либо не представляют интереса для индустрии (например, для разработки табачных изделий), но, разумеется, с оговорками. Защитники животных в таких комиссиях задействованы, при этом сразу оговаривается, что зоозащитные организации могут предложить только треть ее членов, и указывается, что противники экспериментов должны быть в меньшинстве. Все опыты на животных представляются для оценки в комиссию строго анонимно, а ее члены обязуются строго держать в секрете всю информацию. В результате, работа в комиссии полностью превращается в фарс, потому что их решение для начальника окружного управления имеет рекомендательный, а не обязательный характер, и он всегда может проигнорировать отрицательную оценку заявки на эксперимент.
Университеты, занимающиеся экспериментированием на животных, реагируют спокойно. Они создают общества и объединения, которые должны показывать людям, что опыты на животных – это нечто безобидное и необходимое для выживания. Так, пациентам, которым вскоре предстоит выписка, раздают листовки, где рассказывается, что жестокости экспериментов на животных – это всего лишь изобретение антививисекционистов, а ограничение опытов и тем более отказ от них означали бы катастрофические последствия для немецкой медицины. Потом делается отсылка к животным, которые погибают на бойнях, на охоте, на рыбалке или под колесами автомобиля и утверждается, что подопытные животные меньше страдают, чем сельскохозяйственные на бойне, дикие на охоте, собаки и кошки, попадающие под машину каждый день (это – чистой воды обман). А потом пациенту желают выздоровления и, чтобы было оказано противодействие «односторонним интересам фанатичных антививисекционистов», предлагали написать письмо федеральному канцлеру или депутату. Эту акцию начал в апреле 1985 года председатель Общества продвижения биомедицинских исследований, но поддержка оказалась небольшой, потому что большинство коллег профессора сочли его аргументацию слишком плоской и примитивной.
Еще одно объединение, которое ставит целью пропаганду опытов на животных, - Общество за здоровье и исследования. Тут четко проявляется переплетение академической науки и промышленности. В правление входят университетские профессора плюс ведущие работники Федерального объединения фармацевтической индустрии. Это объединение, основанное в начале 1985 года, обратилось к отдельным ученым, научным институтам и организациям всей страны с просьбой о поддержке, но успех оказался умеренным, несмотря на то, что в нем задействованы были миллионы человек. С другой стороны, есть ученые, которые впервые задались проблематикой опытов на животных именно в ходе подобных процессов и стали на поддержку их противников. К ним относится автор настоящей книги.
А как реагирует фармацевтическая промышленность? Она публично заявляет о поиске альтернативных методов, поддерживает промышленные фонды за исследования без подопытных животных (Швейцария), созывает симпозиумы под лозунгом трех R (Reduce, Refine, Replace – уменьшать, совершенствовать, заменять), посвященные альтернативным методам исследования, совместно с защитниками животных, и учреждает премии для ученых, работающих с такими методами.
Но реальность выглядит совсем иначе
При поиске альтернативных методов индустрия совместно с властями через требование оценки и валидации подставляет такую хитрую подножку, что до сих пор не удалось отменить ни одного опыта. Примером служит так называемый тест Драйза, с помощью которого проверяют раздражающее действие субстанций на глаз кролика. Тест Драйза, введенный в 1944 году, никогда не проходил валидацию, то есть, его научная достоверность не проверялась. Переносимость результатов, полученных при работе с глазом кролика, на глаз человека, вызывает оправданные сомнения, потому что толщина роговицы, кислотность слезной жидкости, некоторые свойства мембраны, слезотечение, моргание и блефароспазм при раздражении для человеческого и кроличьего глаза существенно отличаются. Кроме того, имеются исследования, которые показывают, что тест Драйза с трудом воспроизводится как в одной лаборатории, так и в разных. Следовательно, доказать достоверность теста Драйза применительно к человеку вряд ли возможно, потому что существует малое количество систематических данных о действии тестируемых субстанций на человеческий глаз.
Тест Драйза имеет целый ряд альтернатив, которые в настоящее время проходят валидацию посредством циклических промышленных исследований. Раздражающее действие новой субстанции можно проверить на мембране куриного яйца, на изолированном глазу в питательном растворе, то есть, напрямую на роговице глаза убитого сельскохозяйственного животного, а также на кишечной оболочке, но еще лучше – через химические изменения клеток в культуре. Сюда относятся доказательства роста и распространения клеток, проверка проницаемости мембраны с помощью красителей, исследования яичного белка, использование радиоактивно маркированных субстанций и т.д., в присутствии или в зависимости от обстоятельств при отсутствии проверяемой субстанции.
Вполне логично, что очень разное действие агрессивных субстанций на глаз нельзя заменить какой-либо альтернативной системой, вместе с тем, очень велика вероятность того, что при сравнении с помощью разных систем, а также при контроле с помощью разных субстанций, чье раздражающее действие известно, разрушительное действие новой субстанции окажется недооценено. Публикации о методах имеются (Michael C. Scaife, ISI Atlas of Science: Pharmacology 1987, 1/1:63, Current Status of the Eye Irritancy Test in Toxicology), но промышленность сперва проводит длительные тесты по валидации, которые растягиваются на годы. Кстати, сравнение новой системы производится не по критерию раздражающего действия на человеческий глаз, это невозможно из этических соображений, а относительно невалидированного теста Драйза!
Я так подробно останавливаюсь на тесте Драйза, так как здесь особенно четко видно, что означает «валидация» для промышленности и бюрократии: волокиту!
И какое это все имеет отношение к уже упоминавшемуся принципу трех R, с помощью которого фармацевтическая промышленность вместе с академической наукой пытаются восстановить свой запятнанный имидж? Эта идея – сокращать, заменять, совершенствовать – призвана четко указать, что опыты на животных по своей сути являются эффективным методом исследования, но из этических соображений их следует предельно ограничить. Поэтом, согласно данной философии, количество опытов на животных постепенно уменьшается, нагрузка на каждое отдельно взятое животное минимизируется, а опыты на животных все в большей степени заменяются на систему без боли. Возможно, непрофессионалам, которые мало занимались проблемой вивисекции, такое решение покажется очевидным, но профессиональных антививисекционистов оно не только не удовлетворяет, оно для них абсолютно не приемлемо.
Тот, кто рекомендует метод трех R, подспудно преподносит опыты на животных как полезный, эффективный и научно оправданный метод. В противном случае не совершалось бы попыток уменьшить их количество, усовершенствовать и заменить их – они бы немедленно исчезли сами.
Но при более тщательном рассмотрении становится очевидно, что подход в виде трех R представляет собой мыльный пузырь, который в корне ситуацию не меняет, но успокаивает поверхностных наблюдателей или же уводит в сторону от непосредственной проблематики.
Теперь давайте посмотрим на три R более подробно.
R = Reduce, сокращать. Индустрия заинтересована в сокращении количества используемых животных чисто из экономических соображений, так как подопытные животные, то есть, их приобретение и содержание, обходятся очень дорого. Таким образом, ориентированная на общественность идея сокращения вряд ли избавляет подопытных животных от мук. Кроме того, «сокращение» не является приемлемым вариантом для антививисекционистов, потому что вопиющая несправедливость не превращается в справедливость через уменьшение числа. Кстати, идея «сокращения» не нова. Под давлением все более информированной общественности старую версию очень жестокого теста ЛД-50, используемого при токсикологической проверке субстанций, модифицировали таким образом, что тех же прогнозов можно достичь с меньшим количеством животных. Но если принять во внимание ненужность и ненаучность теста ЛД-50, то жестокость этого эксперимента таким образом нисколько не уменьшается!
R = Refine, совершенствовать. Таким способом совершается попытка уменьшить стрессовые ситуации для животных и нагрузку на них. Но экспериментаторы и сами в этом заинтересованы, потому что плохая воспроизводимость эксперимента в значительной степени связана со стрессовыми ситуациями для животных. Для этого предлагается проводить болезненные эксперименты под анестезией, скорее, под летальной анестезией, после которой животное больше не просыпается. Но идея совершенствования чаще всего остается теорией, так как значительную часть экспериментов вообще нельзя проводить под наркозом, если выполняющий их не хочет полностью фальсифицировать результаты. Для многих экспериментаторов идея совершенствования означает все большее использование крыс и мышей вместо обезьян, собак и кошек. Антививисекционисты полностью отвергают идею совершенствования, потому что жизнь каждого животного достойна защиты, а экспериментирование на живых существах, независимо от их вида и статуса в глазах человека, представляет собой безмерное превышение человеком своих полномочий, и тот факт, что жертва не выйдет из наркоза, не оправдывает его.
R = replace, заменять. Тут совершается попытка заменить определенные токсикологические тесты, например, некоторые скрининговые тесты (по выявлению определенных свойств субстанции) на эксперименты с материей, не чувствующей боли. Но в этом наука и промышленность заинтересованы уже давно, и интерес этот имеет чисто экономическую основу, в результате, например, для исследования мутагенности и тератогенности стал использоваться тест Эймса с бактериями. Работа с клеточными культурами и изолированными биохимическими системами, анализ физико-химических взаимодействий, компьютерные модели при введении в практику не только гораздо дешевле, чем опыты на животных, но также обладают большей воспроизводимостью и, главное, достоверностью. Разумеется, один опыт на животных нельзя заменить на один бактериальный тест, но при помощи разных согласованных друг с другом систем тестирования, с использованием контрольных субстанций, обладающих известными свойствами, можно делать подробные прогнозы, которые выходят далеко за пределы того, что доступно в рамках опытов на животных, зависящих от самых разных бесконтрольных краевых условий.
Философия замены должна была отвечать прежде всего идеям противников опытов на животных. Но надо принять во внимание некоторые моменты. Под «заменой» имеется в виду, среди прочего, также эксперимент на изолированных органах или тканях убитого животного. С точки зрения этики между ситуациями, когда эксперименты проводятся под летальным наркозом, и когда органы или ткани извлекаются после умерщвления животного, большого различия нет. Другой подход состоит в том, что опыты на животных, наряду с прочими соображениями, следует отвергать из-за сомнительности их результатов для человека. Разумеется, когда результаты работы с микроорганизмами и культурами клеток надо будет переносить на человека, то проблематика не станет проще. Но тут есть принципиальное различие. Если при экспериментировании на животных чаще всего производятся глобальные результаты, такие как задержка роста опухоли, остановка дыхания или биения сердца, нарушение функционирования органов, пороки развития плода и т.д., то работа с культурами клеток и подобные методы нацелены на изучение отбельных биохимических шагов и систем, которые, благодаря значительному сходству биохимических принципов позволяют делать вполне приемлемые выводы для человека и других живых существ. Мы не должны забывать, что результаты работы с этими альтернативными системами тоже могут представлять собой лишь предварительный опыт. Рисковать в конечном счете всегда приходится человеку. И тут мы добрались до еще одного серьезного аргумента против философии «замены».
Проблемы нашей порочной системы здравоохранения нельзя решить через попытку делать те же лекарства, что и прежде, но не с помощью экспериментирования на животных, а через работу с культурами клеток или микроорганизмами – а философия «замены» предусматривает именно это. Их удастся решить только тогда, когда мы направим все усилия на устранение факторов, из-за которых собственно болезни и возникают. До тех пор, пока мы будем заниматься только поиском медикаментов и других средств от наших массовых заболеваний цивилизации, вместо того, чтобы покончить, наконец, с их истоками, проблематичная обстановка в этой сфере не изменится!
И что же тогда остается от философии трех R? Хотя я убежден, что многие ученые добровольно выступают за отход от традиционной идеологии вивисекционных исследований в промышленности и в науке, я все же боюсь, что RRR является всего лишь новой вывеской магазина со старым содержанием.
Мне хотелось бы сделать резюме по поводу нынешнего положения
Правители пытаются с помощью зоозащитного законодательства успокоить общественность, но не привносить реальных изменений в содержание. Комиссии по защите животных, у которых всякая реальная возможность защитить их отсутствует, призваны имитировать строгий контроль за экспериментами.
В области академической науки, где проводятся преимущественно фундаментальные исследования, никаких изменений в том, что касается опытов на животных, не видно. Структуры находятся в закаменелом состоянии, институты, которые десятилетиями собирали данные через работу с животными, чаще всего неспособны перейти на инвитровые методы, не говоря уже о полном пересмотре самого подхода к вивисекции или усомнении в ней. Требование делать публикации и необходимость находить новые и новые темы для соискателей ученых степеней и молодых ученых приводят к огромному потоку в значительной степени бессмысленных исследований, и в их необходимости сомневаются даже в научных кругах.
Фармацевтическая индустрия мотивирует систему экспериментирования на животных большими финансовыми расходами. Вместе с тем, отношение к опытам меняется чисто из практических соображений. Фармацевтическая индустрия принципиально заинтересована в экономных альтернативах, и у нее возникает все больше сложностей с ее отрицательным имиджем, который она снискала в глазах общественности из-за трагедий, связанных с лекарствами, слишком дорогих либо вредных медикаментов и не в последнюю очередь из-за опытов на животных.
Антививисекционисты не гонятся за несбыточным. У них есть все основания надеяться, что в обозримом будущем опытам на животных настанет конец. Но им надо разобраться с некоторыми пунктами, которые вновь и вновь представляют проблему в борьбе с вивисекцией.
Первый момент касается специализации. Противники опытов смогут своей идеей внести вклад в спасение животных только тогда, когда их борьба против вивисекции является частью общей борьбы против эксплуатации и разрушения природы. Антививисекционное движение достигнет своей цели только при изменении массового сознания, а для этого надо таким же образом бороться против промышленного животноводства, звероводства, генной инженерии, атомных станций и все большего загрязнения окружающей среды. Только совместными усилиями можно не допустить исчезновения человеческого вида и всей нашей экосистемы – того, что вполне возможно в ближайшем будущем из-за безграничной эксплуатации планеты. Но антививисекционистам надо специализироваться именно в деле против опытов на животных. Они не могут быть одинаково хорошо информированы во всех областях и работать во всех направлениях сразу. Их направление главного удара сконцентрировано на вивисекции, и этой деятельностью они вносят свой вклад в сохранение экологической системы планеты. Одновременная борьба во всех направлениях приводит их к ситуации, типичной для многих традиционных зоозащитных организаций, которые в результате попытки объединить всех любителей животных оказываются недооценены и теряют силу. Антививисекционисты должны быть в курсе целей и мотивации других объединений и бороться с ними бок о бок против эксплуатации и разрушения природы, поддерживать их работа, но их промежуточной и конечной задачей является отмена опытов на животных.
Второй момент касается подрывной деятельности. Антививисекционистам не обязательно клеймить агентом фармацевтической индустрии каждого, кто придерживается иного мнения и считает, что отказ от опытов возможен лишь постепенно или частично – делая так, они лишают их пути для дальнейшего развития. Вместе с тем, они действительно должны следить за тем, чтобы не терялась конечная цель – отказ от всех экспериментов. Быть антививисекционистом – значит не выступать за отказ от всех или «излишних» опытов, а стремиться к ликвидации всей системы экспериментирования на животных. Кто не разделяет этой цели, тот мешает всему движению.
Третий момент касается освободителей животных. Насилие для достижения морально оправданных целей всегда сопряжено с проблемами, потому что оно с большой степенью вероятности влечет за собой противодействие или массовые репрессивные меры. Мы все понимаем людей, которые из-за чувства отчаяния перед безмерными муками миллионов животных прибегают к прямому действию и спасают их из лабораторий, чтобы пристроить в добрые руки. Но антививисекционистам надо помнить, что через такое освобождение животных еще не удалось предотвратить ни одного опыта, потому что на место освобожденных животных поступают новые. Опасность тут колоссальная, потому что после каждого подобного случая экспериментаторы обращаются к закону, чтобы приравнять действия освободителей к преступлению и разорить их, возлагая на них ответственность за причинение ущерба. Еще одна проблема состоит в том, что часто бывает очень трудно правильно обращаться с животными, которые серьезно больны, инфицированы или подвергались облучению. Пресса чаще всего бывает против освободителей, и у экспериментаторов появляется хороший повод заявить о «необходимости» экспериментов на животных.
Иначе выглядит ситуация, когда нелегальное проникновение в лабораторию оказывается последней возможностью сделать происходящее достоянием общественности. В США защитники животных проникли в обезьянью лабораторию и похитили видеофильмы, которые были подготовлены самими экспериментаторами для документальных целей. Таким образом широкая общественность смогла впервые узнать о жестоком обращении с обезьянами, не получившими обезболивания. В Дюссельдорфе в результате проникновения в университетскую лабораторию были похищены страшно изуродованные трупы собак, а вскоре после этого их разложили перед Кельнским собором, так что множество людей столкнулись с проблемой опытов на животных.
Какое место сегодня занимает антививисекционное движение?
В последние годы на тему опытов на животных появилось немало примечательных книг. Эту проблематику затрагивали многие статьи, количество авторитетных источников информации расширилось, происходит много мероприятий с известными докладчиками, в антививисекционных организациях число участников растет, а опросы общественного мнения показывают, что люди ни в коей мере не согласны с использованием беззащитных животных в качестве измерительных одноразовых инструментов – хотя прогресс происходит медленно, многим кажется, что даже чересчур медленно. И вместе с тем мне кажется, что нам не следует отчаиваться! Есть основания верить, что борьба за отмену вивисекции сейчас находится на поворотном пункте. И мне бы хотелось указать некоторые свидетельства тому.
Борьба против вивисекции все в большей степени производится на научном уровне. Прежние стороны, непрофессионалы в качестве противников опытов и ученые в качестве сторонников, разрушаются, потому что все больше ученых и врачей ставят под вопрос и отвергают экспериментальную систему. Соответственно, за последнее время появился целый ряд новых объединений медиков и ученых, которые активно занимаются проблематикой опытов на животных на профессиональном уровне.
В этой связи следует также обратить внимание на базы данных по альтернативным методам, которые были составлены разными организациями по защите животных (например, немецкой).
Борьба против вивисекции становится все более профессиональной. Многие организации отказываются от принципа работы, основанного на раздаче листовок, и прибегают к новым информационным средствам, например, видеозаписям, чтобы рассказать о мучениях животных. Профессионально составленная документация и информационные брошюры раскрывают то, какой вред причиняется людям и животным в ходе экспериментирования. От фильмов, показывающих ужасные страдания подопытных животных, уже не отмахиваются как от гипертрофированной сентиментальности.
Даже те люди, которые сами занимаются опытами на животных, все чаще высказывают отрицательное отношение к ним. Мне известны конкретные случаи, когда технические работники лабораторий обращались в организации по защите животных и даже уходили со своей работы, потому что не хотели быть связанными с массовым убийством животных ради науки. Дополнительным фактором здесь послужили возникшие в последнее время предположения о том, что целый ряд болезней и аллергий берет начало от контакта с подопытными животными.
Все больше студентов-медиков выступают против проведения на практических занятиях опытов на животных, а суды удовлетворяют их требование отменить вивисекцию в учебном процессе. Можно не сомневаться, что эти студенты также отрицательно относятся к экспериментированию на животных с научными целями. Некоторые институты, например, человекооритентированный Университет Виттен-Хердеке, решили вообще отказаться от опытов на животных при подготовке будущих медиков.
Сейчас появляется все больше политиков, которые интересуются проблемами, связанными с опытами на животных, и стремятся успокоить их противников не только пустословием. Например, Армин Клаусс, бывший министр по социальным вопросам федеральной земли Гессен, выступала за ужесточение законодательства в этой сфере. В Австрии доктор М. Флемминг, министр по вопросам окружающей среды, молодежи и семейной политики, отвечающая за проблемы защиты животных, и доктор М.Хубинек, президент Национального совета, не снискали почтения со стороны фармацевтичкой промышленности из-за их настойчивого стремления ужесточить зоозащитное законодательство. Некоторые партии стараются занять свою собственную позицию, которая значительно отличается от позиции индустрии и науки. Наконец, в Италии, в провинции Больцано – Южный Тироль удалось законодательно запретить опыты на животных.
Как можно усилить борьбу против вивисекции?
Борьба за отмену опытов на животных станет более эффективной, если сочетать нынешние формы работы с дополнительными ужесточениями в некоторых новых областях. Вот некоторые ключевые пункты.
Экспериментирование на животных должно еще тщательнее документироваться. Его противники нуждаются в предметной информации по этому поводу, а не в трудно проверяемых анекдотах. Чем лучше и точнее люди будут осведомлены о пытках животных в лабораториях, тем меньше они будут верить заявлениям экспериментаторов, что большинство опытов причиняют не больше страданий, чем забор крови для анализа у человека. Нужно еще детальнее показывать научное дилетантство, присущее большинству работ, которые основаны на экспериментировании с животными. Множество животных используется в работах, которые и с традиционной консервативной научной точки зрения бессмысленны и излишни.
Надо еще более подробно разъяснять отрицательное воздействие экспериментов на человека и животных. Многие люди, которые могли бы в противном случае остаться равнодушными, начинают интересоваться проблемами экспериментирования на животных, узнав, что сами они являются скорбящими родственниками жертв тех, кто умер вследствие ложных обещаний науки и фармацевтической индустрии. Противники опытов на животных должны всеохватывающе раскрыть фатальные результаты этой практики не только отдельным людям, но и всей системе здравоохранения. В этой связи им нужно еще более четко прояснить, что альтернативой им являются не опыты на людях или человеческих эмбрионах, что нужно разрабатывать и продвигать новые научные методы, более эффективные и содержательные для человека, чем спорные эксперименты на животных.
Необходимо еще больше работы с общественностью. Чем чаще в газетах, по радио, телевидению, с плакатов будут звучать слова «противники экспериментов на животных» или «антививисекционное движение», тем более четко общественность будет понимать их цели, тем чаще их будут приглашать на публичные дискуссии и информационные мероприятия, тем более всерьез будет восприниматься движение, и тем надежнее будет поддержка и со стороны так называемого молчаливого большинства. Противники экспериментов на животных должны работать над новым имиджем: они не могут более представать в образе наивных защитников животных, которые верят в утопическое наступление Золотого века. Вместо этого им нужно четко представлять себе, что отмена опытов на животных в скором времени может произойти во благо человечества.
Аргументацию сторонников экспериментов на животных следует просвечивать еще более четко. Противникам вивисекции вновь и вновь приходится сталкиваться с определенными схемами. Делается попытка оправдать всю систему экспериментирования на животных при помощи крайних примеров, как с недавнего времени способные спасти жизнь операции на сердце грудным детям. Защитники животных должны знать, что тут речь идет о такой же цепочке аргументов, как в случае, когда противнику военной службы задают вопрос, а станут ли они отвергать оружие в случае нападения на ребенка или на раненого – и таким образом оправдывается вся милитаристская система. Другая схема состоит в том, что антививисекционистам противопоставляют авторитет целой, до сих пор внешне успешной научной отрасли, например, токсикологии. На этот счет следует знать, что токсикология никогда не стремилась к тому, чтобы заниматься чем-то, помимо экспериментирования на животных, и что в последнее время были опубликованы материалы о многих системах без животных, и с их помощью можно получить более содержательные результаты, чем при традиционных способах работы. Детальное знакомство с этими системами аргументов облегчает общественную дискуссию.
Дискуссию по вопросам экспериментирования на животных надо еще в большей степени, чем прежде, проводить в школах и институтах. Молодые люди открыты для вопросов, которые связаны с противопоставлением защиты животных против тщеславия и прибыли. Они не приравнивают противников опытов на животных к левым революционерами лишь по причине того, что те ставят под вопрос нашу неэффективную систему здравоохранения. Студенты медицинских вузов прежде всего готовы к тому, чтобы соприкоснуться с критическими вопросами, связанными с современной медициной.
Необходимо еще больше просветительской работы среди врачей. Мы знаем много врачей, в принципе недовольных нашей системой здравоохранения, возможности которой все в большей степени ограничиваются тем, чтобы при помощи химических веществ, проверенных на животных, и оперативных методов, устранять симптомы. Большинство врачей вполне в курсе того, какие серьезные побочные эффекты и нарушения могут возникнуть в результате приема медикаментов, но они чаще всего понятия не имеют, как были получены медикаменты, с которыми они ежедневно работают. Врачам нужно разъяснить, что сегодняшняя вивисекционная медицина не ведет в будущее, а представляет собой тупик, вымощенный страданиями животных.
Борьба против вивисекции должна быть еще в большей степени интегрирована в общую борьбу за сохранение нашей экологической системы. Система экспериментирования на животных очень тесно связана с другими системами безудержной эксплуатации природы. Генная инженерия включает в себя огромное количество опытов на животных, уже запатентованы генетически измененные животные. Массовое содержание животных в конечном счете основывается на серии экспериментов, в которых делалась попытка «произвести» животных с минимальными затратами на самом маленьком пространстве. Эта жестокая система была бы вообще невообразима без фармацевтических препаратов, разработанных на животных. К этому добавляются еще исследования, где ставилась цель убой производить так, чтобы мясо выглядело максимально привлекательно для потребителей. Исключительно жестокие опыты проводятся в сфере ядерных и военных исследований. Животных подвергают радиоактивному облучению, им вводят или встраивают в органы радиоактивные субстанции. У противников опытов на животных есть все основания вступить в организации, которые хотят добиться прекращения жестокой эксплуатации нашей планеты.
Действия против опытов на животных должны быть еще в большей степени интегрированы в современную медицину и науку. Противники экспериментов должны четко разъяснять, что они не хотят упразднения современной медицины, что вместо этого они хотят лучшую, более целостную и всеохватывающую медицину, которая бы воспринимала предупредительные меры для поддержания здоровья столь же всерьез, сколь и оказание помощи в экстренных случаях и долгосрочное лечение. Им нужно указывать на то, что вивисекционный подход к исследованиям является одной из многих проблем, мешающих столь необходимому дальнейшему развитию нашей медицинской системы. Нам следует требовать фундаментального преобразования нынешней медицинской системы и при этом сотрудничать с другой категорией – прежде всего более молодые врачи организуются в дни здоровья и попадают под обозначение «критическая медицина». Врачи недовольны тем, что наша медицинская система только снимает симптомы, но не может более обеспечить устранения причин. Заинтересованные медики не боятся внешне эффективных методов и отклоняют новаторские или же укоренившиеся в других культурах способы лечения потому, что они не могут объяснить их своими научными методами.
Нужно четко разъяснить, что прежде всего преодоление таких фундаментальных заблуждений как опыты на животных вновь позволит медицине называться лечебным искусством.
Вернуться
к началу страницы
Мифы об опытах. Бернард Рамбек
© Bernhard Rambeck, Mythos Tierversuch. Eine wissenschaftskritische Untersuchung
6., erweitete Auflage
© Перевод на русский язык: Анна Кюрегян, Центр защиты прав животных
«ВИТА», 2018
Постоянная ссылка: http://www.vita.org.ru/library/philosophy/mify-ob-opytah.htm
Материалы по теме:
Статья "Мифы об опытах на животных". Бернхард Рамбек, доктор естествознания
Бессердечная наука, Герберт Штиллер
Эксперименты на животных и альтернативы
Человек это женщина это собака это крыса
Убийство невинных. Ганс Рюш. Знаменитая книга швейцарского историка медицины на русском языке
Большой медицинский обман. Ганс Рюш
Тысяча врачей мира против экспериментов на животных. Ганс Рюш
"Эксперименты на животных и экспериментаторы" (Вивисекция и вивисекторы). Герберт Штиллер, Маргот Штиллер
"Смертельные опыты. Эксперименты на животных и на людях". Герберт Штиллер, Маргот Штиллер, Илья Вайс
ВИДЕО:
Подопытная парадигма
Гуманное образование в странах СНГ
Абсурд. Опыты на животных. Мультфильм организации "Врачи против опытов на животных", Германия
Комментарии
|


 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕГА́НСТВО
ВЕГА́НСТВО  МЕХ
МЕХ СОБАКИ и КОШКИ
СОБАКИ и КОШКИ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Видео
Видео
 Фото
Фото
 Книги
Книги
 Листовки
Листовки
 Закон
Закон
 НОВОСТИ
НОВОСТИ
 О нас
О нас
 Как помочь?
Как помочь?
 Вестник
Вестник
 СМИ
СМИ
 Ссылки
Ссылки
 ФОРУМ
ФОРУМ
 Контакты
Контакты

 ПОИСК НА САЙТЕ:
ПОИСК НА САЙТЕ:









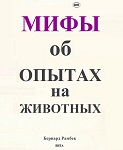
 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































