|
«Спутник здоровья»
общедоступная медицинская и гигиеническая библиотека
№11
Вегетарианство
или безубойное питание
с нравственной и
медицинской точек зрения
Д-ра Бернарда Шапиро
Бесплатное приложение к журналу «Спутник Здоровья»
за ноябрь 1900 года
Издание "Посредника"
для интеллигентных читателей
С.–ПЕТЕРБУРГ
Типография Товарищества «НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА»
Коломенская ул. Собств. дом, 39
1900
Дозволено цензурой. С.-Петербург 7 ноября, 1900 года
СОДЕРЖАНИЕ:
V. Физические и нравственные инстинкты человека
Прежде всего, рамки инстинктивной жизни у человека мы находим заметно суженными: число инстинктов существенно меньше, чем у животных и, по крайней мере, начиная с известного возраста, они все почти освещены более или менее лучом сознания. Мы не только едим, пьем, любим своих детей и т.д., но делаем все это вполне сознательно, понимая цель и последствия наших действий. А что касается целого ряда других важных для нашего благополучия дел и предприятий, то им предшествует не чувственный импульс, бессознательный или сознательный, следовательно – не инстинкт, как мы это видим часто у животных, а настоящий процесс мысли или, иначе говоря, рассуждение. Итак, область мысли значительно расширилась насчет сферы инстинктивной. В то же время, нравственные и общественные инстинкты с определенным высоким назначением умножились и углубились в нашей душе в самой ощутительной форме, и над всеми ими, как и над физическими инстинктами, возвышается в качестве высшей повелевающей инстанции, самая совершенная из функций мозга – мысль, сознание и воля. Нравственные чувства не только направляют к «добру» (т.е. к общему благу), но и удерживают от «зла», образуя в союзе с мыслью и волей ту высшую и сложную систему задерживающих и регулирующих влияний, о которой мы говорили выше, и которая обеспечивает правильное, т.е. полезное для общества действие всех инстинктов и чувств.
Так, мы предпочитаем мучиться жаждой, чем утолить ее водой, которая в силу рассуждения нам кажется вредной для здоровья (задержка инстинкта мыслью). Мы постимся, т.е. обрекаем себя на голод во имя религии (религиозное чувство); не доедаем, чтобы лучше насытить своих детей (родительское чувство); миримся нередко с лишениями, т.е. ограничиваем свои инстинкты ради блага ближнего (любовь к ближнему); мы наказываем, скрепя сердце, любимого ребенка (т.е. исправляем и регулируем известный инстинкт рассуждением); половому влечению человек противопоставляет свое решительное «не моги», уступая ему только при известных, освященных обществом условиях (половое нравственное чувство, половая нравственность); мы успешно боремся со своим эгоизмом, свойственным каждому живому существу и вытекающим из чувства самосохранения; и последний властный инстинкт, охраняющий первое благо каждого создания – жизнь, мы сплошь да рядом подчиняем более высоким чувствам или нравственным побуждениям, как любовь к семье или к отечеству, чувство долга и т.п.
Эти нравственные инстинкты или нравственные чувства человека довольно разнообразны и частью отвечают условиям его личного благополучия, но еще чаще имеют в виду благо ближнего - будет ли то благо семьи, близких людей или же той общины, к которой человек принадлежит.1 Мудрый Промысел, который все устраивает, приспосабливая нашу душу к условиям и нуждам общественной жизни, даровал нам рядом с эгоизмом, защищающим личные интересы каждого из нас, целый ряд других чувств, которые не только удерживают эгоизм в должных рамках, но нередко даже его совсем парализуют. Краеугольный камень этих чувств составляет любовь к ближнему или к другому, поэтому в противоположность эгоизму, называют альтруизмом (ego - я, alter – другой).
Любовь к себе подобным, как мы уже говорили, в ограниченной форме знакома и животным. Началом ее, бесспорно, является привязанность матки к своим детенышам и обратно, обеспечивающая самые жизненные нужды последних. С развитием мозговых полушарий и расширением душевного мира животных, у них, особенно в лице высших позвоночных, живущих обществами, раздвигаются и рамки первобытной родительской любви, распространяющейся уже на всех членов своего сообщества. У людей это будет привязанность к своим односельчанам или горожанам, а впоследствии – ко всем представителями своего рода, другими словами – к своей нации. Национальная любовь или, как выражаются - национальное чувство, стоит на страже общих национальных интересов и, подобно другим нашим инстинктам или чувствам, нуждается в контроле разума. Из национального чувства вытекает законное и целесообразное чувство международного соревнования (как от любви к ближнему проистекает личное соревнование), которое, при недостаточном запасе любви, у многих людей вырождается в ненависть к другим нардам и их представителям. Вся история человечества, к несчастью, запечатлена кровавыми следами этой ненависти.
Гораздо чище и гораздо меньше шансов к извращению представляет высшая форма – любовь и сострадание к человеку, как таковому, любовь, не ограничивающаяся только «своими», но и признающая всех людей братьями. Картина зла и опустошений, причиняемых национальной ненавистью, в силу закона целесообразности и нравственной эволюции человечества, заставляет все громче и громче раздаваться голоса мыслящих людей и избранных натур в пользу общечеловеческой, а не узконациональной любви. И нет сомнения, что первая принесет с собою в мир разрешение от многих общественных язв и бедствий, до сих пор тяготевших над людьми. На этом же просветленном чувстве покоятся и надежды вегетарианцев, так как любовь к ближнему в благородных сердцах обыкновенно идет рука об руку с любовью и жалостью ко всему живому.
Самоотверженность, великодушие, любовь к отечеству, равенству и свободе, любовь к правде и справедливости, уважение к праву, чувства долга и целый ряд других социальных чувств или «добродетелей» проистекает главным образом из той же любви к ближнему, хотя к некоторым из них примешиваются, как продукт общественных и государственных отношений и «правовые представления».2
В тесной психологической связи с любовью к ближнему стоит и любовь к истине, освещающей наш путь к счастью.
Тот же источник имеет, в связи с запросами мысли, и религиозное чувства, т.е. любовь и благоговение перед тем Началом, которое управляет и законами нашей души и всеми материальным миром.
Любовь к ближнему делает нас также в высшей степени неравнодушными к его мнению о нас. Отсюда неограниченная власть над нами общественного мнения (вернее, мнения того слоя общества, к которому мы принадлежим), действующего на нас неотразимо даже помимо нашего сознания. Это – страшная сила, которая делает из человека послушное орудие общего блага, если только люди правильно мыслят о добре и зле и если они превозносят действительную, а не мнимую добродетель, действительные, а не мнимые заслуги. Потребность в одобрении ближних для некоторых лиц является преобладающим чувством, почти подчиняющим себе все другие, и принимающим форму то славолюбия или честолюбия, то тщеславия (честолюбие в применении к мелочам). Между прочим, и победа вегетарианства зависит всецело от поворота в общественном мнении.
Рядом с любовью к человеку в нашей душе царит еще целый ряд спасительных чувств уже специально тормозящего характера (хотя и любовь является сильным тормозом для всех эгоистических порывов или инстинктов). Таковы: отвращение к убийству или убийцам, чувство воздержания в половой сфере, в области еды и питья, воздержание в отношении чужой собственности и т.д. Эти чувства отвечают нравственным идеям: не убий, не прелюбодействуй, не угождай своему чреву, не укради и проч. В общей сложности, они представляют собой идею воздержания в обширном смысле слова.
Любовь и воздержание – вот альфа и омега нашей нравственности, как деятельной и тормозящей функции мозга, подчиненной мысли и рассуждению. Это то самое воздержание, которое составляет основу всякой моральной философии и которое еще в древности так самоотверженно проповедовал великий Сократ. Оно же лежит в основе и бескровного питания, которое есть ничто иное, как воздержание от убийства, жестокости чревоугодия.
1 Между инстинктом и чувством мы не проводим резкой грани, считая только последнее ощущение более сознательным, чем первое, преобладающее особенно у детей.
2 Т.е. представления о той, относительно временной, иногда вполне условной правде, которая в данное время уже осуществлена и превращена в закон, нормирующий взаимные отношения членов общества.
|


 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕГЕТАРИАНСТВО
ВЕГЕТАРИАНСТВО  МЕХ
МЕХ СОБАКИ
СОБАКИ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Видео
Видео  Фото
Фото  Книги
Книги  Листовки
Листовки
 Закон
Закон  НОВОСТИ
НОВОСТИ
 О
нас
О
нас  Как
помочь?
Как
помочь?
 Вестник
Вестник
 СМИ
СМИ
 Ссылки
Ссылки  ФОРУМ
ФОРУМ  Контакты
Контакты 

 ПОИСК НА САЙТЕ:
ПОИСК НА САЙТЕ:






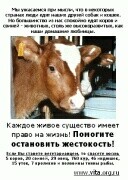
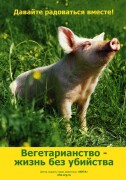



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































