|
«Спутник здоровья»
общедоступная медицинская и гигиеническая библиотека
№11
Вегетарианство
или безубойное питание
с нравственной и
медицинской точек зрения
Д-ра Бернарда Шапиро
Бесплатное приложение к журналу «Спутник Здоровья»
за ноябрь 1900 года
Издание "Посредника"
для интеллигентных читателей
С.–ПЕТЕРБУРГ
Типография Товарищества «НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА»
Коломенская ул. Собств. дом, 39
1900
Дозволено цензурой. С.-Петербург 7 ноября, 1900 года
СОДЕРЖАНИЕ:
VIII. «Не убий!»
Ужас перед убийством - едва ли не самое сильное из наших нравственных чувств, и представление «не убий» - едва ли не самый крепкий из оплотов всей системы воздержания. Поэтому мотивом убийства у нормального человека являются только самые сильные искушения или бушующие страсти, а с другой стороны – страшным напором не только ломается оплот, но последний увлекает с собой и другие, соседние тормоза, с которыми первый составляет одну общую систему. Вследствие такой колоссальной траты запасов нравственной энергии наступает общее нравственное банкротство или истощение. Человек лишается своей нравственной физиономии, приближается к зверю: общество от него отрекается и предает его казни, либо, изгнав из своей среды, подвергает его на долгие годы суровой школе тяжкого труда и дисциплины, дабы путем нового усердного упражнения, мало-помалу восстановить деятельность задерживающих центров и центров любви.
Все, что мы говорили в предшествующей главе о последствиях насильственного повреждения нравственных тормозов и о мнимых исключениях из общего правила, не только всецело относится к заповеди «не убий», но выступает тут еще с особенной рельефностью.
Прежде всего, убийца страшен тем, что, сломав в своей душе самую крепкую преграду, которая должна быть неприкосновенна как святыня, он очутился на широкой, гладкой, беспрепятственной дороге, ведущей к дальнейшим убийствам. Поэтому повторение преступления здесь принадлежит к заурядным явлениям. Убийство открывает дверь и другим преступлениям, едва ли нужно еще здесь подробно доказывать. Воровство и половая распущенность для человека, который не задумался для достижения своей цели перешагнуть через труп, почти безделица, а о любви к ближнему, правдивости, долге гражданина здесь едва ли нужно говорить.
Мы нарисовали картину настоящего отвратительного убийцы, например, убийцы-грабителя. Само собой разумеется, что наши рассуждения вовсе не применимы к нечаянным убийствам и только с большими ограничениями к убийствам в состоянии запальчивости или душевного аффекта. Впрочем, последнего рода кровавые расправы представляют все-таки нравственное падение и не заслуживают излишнего снисхождения, которое ему нередко оказывают в нашем обществе, так как сознание и функция тормозящего аппарата мозга у людей добрых и нравственно развитых, хотя и подавлены во время аффекта, но далеко не сведены к нулю. Такие люди, как бы они в конкретном случае не забылись, или как бы не были оскорблены, почти никогда не хватаются за нож или револьвер. Быть может также, что и для некоторых других категорий следовало бы менее сгустить краски. Однако всякому, у кого есть немного психологии, положительно трудно себе представить обыкновенного, действовавшего обдуманно убийцу в роли очень нежного отца, самоотверженного товарища и т.д. Факт тот, что убийство почти всегда производит страшное опустошение сокровищницы нравственности и любви, только у одного большее, у другого - меньшее. Зависит это, как и при нарушении завета половой нравственности или других основ морали, от двух уже знакомых читателю причин: от индивидуальных колебаний нравственного представления «не убий» и от закона нравственного приспособления или иллюзии мысли.
Что касается первой причины, то едва ли пределы колебаний у разных лиц могут быть особенно значительны. По крайней мере, человек, которому ничего не стоит убить ближнего, вследствие бледности соответственного задерживающего представления, стоит уже не пороге слабоумия и должен рассматриваться как душевнобольной. Но и в границах нормальной психологии можно себе легко представлять, что на почве врожденных свойств или же в силу большего или меньшего упражнения, один питает в к убийству самое непреодолимое отвращение, другой же – не столь сильное, один при виде человеческой крови содрогается всем телом, другой же переносит это зрелище более спокойно. У диких народов без настоящей нравственной культуры все нравственные представления, в том числе и интересующее нас, не имеют таких глубоких следов в психическом органе, как у передовых наций, поэтому убийство там не вызывает особенно сильной реакции общественного мнения (т.е. протеста нравственного чувства), и на убийц не сыплются общие проклятия как, например, в Швейцарии или в Северной Америке.1
Что большая или меньшая напряженность какого-нибудь нравственного представления, в данном случае представления о гнусности убийства, может быть чертой врожденной и наследственной, на эту мысль невольно наводит один очень поучительный факт из жизни современных, даже культурных наций. Мы намекаем здесь на известную «кровожадность», т.е. склонность к убийству, народов романской расы, как бы унаследованную ими от римлян. Особенно эта прискорбная популярность кровопролития бросается в глаза в жизни испанских и испанско-американских республик, но и французы, а отчасти и итальянцы (в жилах которых часто течет смешанная кровь), не свободны от этого упрека. Вследствие этого, между названными нациями чаще, чем между другими, вероятно, встречаются субъекты, являющие собой как бы некоторое исключение из правила, соединяя с грехом убийства еще порядочный запас добродетели. Поясним это еще примером. У некоторых индусских племен, следующих гуманному учению буддизма, нравственное представление «не убий», так сказать, сидит в мозгу глубже и шире, чем у нас, так что даже убийство коровы требует известного насилия над своими чувствами и угрожает нравственности человека (пункт 4); напротив, представители мясоедения убивают животных с гораздо меньшим ущербом для своей нравственности. Тем не менее, индусам не в чем нам завидовать, так как общественная санкция умерщвления животных, выгораживая совесть каждого отдельного лица, производит зато общее понижение нравственности всего населения.
По той же причине и «преимущество» романских народов перед англосаксонской или славянской ветвью довольно безотрадного свойства. Правда, может быть, там некоторые убийцы менее отвратительны, чем у нас, но зато популярность ножа и револьвера действует как яд на лучшие человеческие чувства, связана с обаянием перед физической силой и, гарантируя всегда последней симпатии общества, подготовляет ее торжество над правдой и свободой. Поэтому разные «бравые генералы» там всегда находят благоприятную почву для всяких пронунциаменто, зная, что достаточно только иметь успех, хотя бы купленный ценой кровопролития и преступления, чтобы привлечь на сторону государственного переворота и народ, и общество. На этом бесспорно были основаны и расчеты Наполеона III, когда он задумывал свой coup d’etat. Отсюда также у этих народов беспрерывные революции и беспощадность к политическим противникам, которых с легким сердцем посылают на эшафот. При таком настроении чувств, обыкновенно идущем рука об руку с чрезмерным обаянием перед физической силой, международная политика нации неминуемо носит на себе печать воинственности, а война, в свою очередь, как мы сейчас увидим, есть самый страшный бич для нравственного мировоззрения народа.
Совершенно в таких же отношениях к народной совести стоит у испанцев пресловутый бой быков - это национальное. Страстно любимое зрелище столько же вытекает из культа физической силы, как его красноречивое выражение, сколько и упрочивает этот культ, нанося чувствительный ущерб нравственному настроению народных масс. Получается как и во многих других случаях заколдованный круг в котором последствие усиливает причину и из которого нелегко выбраться.
Физические инстинкты в качестве первобытных основных свойств животной натуры, согласно учению дарвинизма, имеют больше шансов передаваться по наследству, чем поздние, выступившие на сцену эволюции животных нравственные чувства. Поэтому можно не без некоторого основания предположить, что причиной склонности романских народов к кровопролитию является не наследственная бледность представления «не убий», а полученная от предков чрезмерная напряженность одного из наших коренных физических инстинктов – бессознательного обаяния перед физической силой, которое и действует угнетающим образом на названное нравственное представление. Как бы то ни было, результаты торжества физического или ослабления одного из нравственных чувств нас налицо. Это будет, согласно развиваемому нами закону, общее понижение нравственного тонуса или нравственного уровня этих народов, так что в настоящее время даже поговаривают о надвигающейся гибели романских культур, которые, быть может, ожидает участь их предшественницы и родоначальницы – древнеримской цивилизации. Уже неудача, которую еще в средние века потерпела в этих странах религиозная реформа, была зловещей приметой. И действительно, вникая в народную психологию и присматриваясь к нравам населения, наталкиваешься чаще на громкие или красивые слова, чем на то реальное, здоровое, нравственное чувство, которое занимает столь видное место в мировоззрении других передовых наций (американцев, англичан, шведов, немцев и др.). А потому, и в политике партий эгоизм и интриги получают слишком часто перевес над долгом гражданина и истинной любовью к отечеству.
Во всех вышеприведенных примерах гораздо ярче выступает прямое оправдание нашего закона (об убыли всей нравственности человека под влиянием «отрицательного упражнения» или нарушения одного из ее положений), чем кажущееся отступление от него. Напротив, во всех случаях, где мы встречаемся со второй из названных выше причин – с заблуждениями или иллюзиями мысли, мнимые исключения из нашего закона встают перед нами в более или менее убедительной форме, и только анализ открывает нам глаза на роковые последствия нарушения священного завета любви.
Нарушения эти происходят не столько от слабости и несостоятельности самой любви, сколько от парализующих ее идей или представлений, которые и расчищают путь для зла. Так, родовая месть у первобытных народов преисполняет даже относительно хороших людей жажды крови. Европейские народы также сохранили до сих пор обычай кровавого поединка (дуэль), возвращающий нас к отдаленной мрачной эпохе господства в жизни физической силы. Даже люди с добрым сердцем берутся иногда за оружие, чтобы «смыть оскорбление кровью». Они так убеждены в правильности и «благородстве» такого поступка, что мысль о простом убийстве со всеми ужасами и деталями этого преступления им и в голову не приходит. К тому же, такое представление о деле, осуждающее не бессилие одно из самых крепких наших тормозящих чувств («не убий»), одобряется и поощряется общественным мнением, которое дуэлянта окружает почти славой героя.
При таких условиях убийство в некоторых случаях, как будто, действительно не вносит в душу человека растления. По крайней мере, всем нам кажется, что «благородный» человек, убивший таким «благородным» образом другого человека, не имеет ничего общего с простым убийцей, не угрожает нам «рецидивом» (вследствие снесенной потоком плотины) и т.д. Однако здесь просто кроется ошибка нашего сознания, легко определяющего только то, что резко выдается, что сразу поражает наши чувства, не требуя ни особенного наблюдения, ни размышления. Ибо, как ни велика иллюзия, и здесь ей едва ли удается вполне сгладить в мозгу представление «не убий»; известное насилие над последним, а, следовательно, и над всей нравственностью, согласно пункту 5 нашей схемы, все-таки неизбежно. Конечно, первое понижение нравственного тонуса, первое охлаждение к ближнему после дуэли может легко ускользнуть от внимания окружающих, оно скорее достигнет собственного сознания человека, обладающего известной чуткостью и способностью к самонаблюдению. При повторении проступка, уже вырабатывается известный злой тип «дуэлянта» или «забияки», которого все боятся и которому уже ничего не стоит (благо он сам метко стреляет) из-за пустяка кого угодно «потащить к барьеру».
В случае дуэли иллюзия относительно позволительности убийства до того пустила корни, что падение общего нравственного барометра человека действительно не кидается в глаза, хотя оно и неминуемо. Буквально то же самое следует сказать и о политических убийствах, для которых философское недомыслие людей также создало особую теорию, совершенно выгораживающую их из общей категории убийств. Но, по счастью, в этом случае, при малодоступности личного мерила нравственности, к нашим услугам является общественный масштаб, на котором после каждого политического убийства очень рельефно отмечается скачек вниз общего нравственно-гражданского настроения. Вера в добро и в общественный прогресс после каждого такого злодеяния заметно бледнеет в обществе, и последнее на время как бы поворачивается спиной к своим недавним идеалам. Это носит название «политической реакции», которая обыкновенно овладевает не только потерпевшей стороной, но и почти всем обществом.
Психология этого процесса в высшей степени поучительна. Требование политических реформ, когда такое течение действительно появляется в общественной жизни, всегда указывает на подъем альтруистических чувств, на воспрянувшую веру в человека и в добрые начала жизни, вообще на поднявшийся в обществе уровень любви. И вдруг – убийство, да еще главы государства, - одно из самых злых дел, на которые человек способен… Происходит сразу сильный отлив общественной любви; получается совсем другой, гораздо более низкий нравственный тонус, другая нравственно-гражданская физиономия общества, и о недавних, быть может, даже близких к осуществлению реформах, нет больше речи. К несчастью, те, которые прибегают к кровопролитию, чтобы устранить, по их мнению, препятствие с пути прогресса, обыкновенно столь же мало осведомлены в законах психологии и нравственности, как и прочие люди, почему их преступлениями и достигаются обыкновенно диаметрально противоположные результаты.2
Совершенно аналогичный процесс разворачивается в нравственной жизни общества, когда в эпоху относительного торжества в гражданской области добрых или так называемых «либеральных» начал любви, равенства и т. д., оно вдруг санкционирует войну с соседом или отдаленной нацией «для защиты своих интересов» или же из других побуждений. Война является новым ярким примером, на этот раз уже массового убийства, условно допускаемого человеческой совестью. Много путей ведут к вооруженной борьбе народов. Во-первых, хищнические аппетиты, другими словами – торжество эгоизма над чувством собственности (или над нравственным представлением «не укради»). Во-вторых, национальная ненависть. Мы уже говорили в другом месте, что это – ничто иное, как законное и целесообразное чувство международного соревнования, которое, как и соревнование между личностями, при недостатке любви к ближнему и к правде, выражается в стремлении одержать верх над соперником не путем собственного самоусовершенствования, а через насильственное ослабление последнего.
В-третьих, ненависть к чужому народу особенно поддерживается и взаимным их непониманием. Дело в том, что мы распространяем свои симпатии или свою любовь к ближнему, главным образом, на «себе подобных», мы в то же время, вследствие ограниченности нашего умственного и нравственного кругозора, привыкаем считать критерием подобия частью чисто внешнее сходство (национальная наружность, костюм, язык), частью же - только второстепенные и мелкие черты внутренней жизни (одинаковые вкусы или обычаи).3 Только опыт в отношениях с другими нациями открывает нам глаза на их внутренний мир и, пораженные почти полным сходством этого мира с нашим собственным, мы готовы тогда воскликнуть: plus ca change, plus c’est la meme chose.4
Наконец, третий путь, ведущий к беспрерывным войнам между народами, есть обаяние людей перед физической силой. Это – совершенно ложный инстинкт, по-видимому, и унаследованный нами от животных, которым он, так сказать, вполне к лицу, так как они знают почти только физическую мощь. Совсем другое дело – человек, который победил мир не своими мускулами, а своим мозгом, не физической ловкостью, а нравственными качествами и силой ума. Можно безошибочно сказать, что самое выдающееся телесное преимущество для нас ничто, в сравнении с наиболее второстепенным из наших душевных качеств. Поэтому люди мыслящие, умеющие руководить своими инстинктами, направляют свое обаяние перед силой, как целесообразное средство для ее поощрения и развития, не на физические, но на душевные свойства человека, как его главную силу. К сожалению, народные массы, да и интеллигентные люди, не умея мыслить и отдавать себе отчет в своих ощущениях, далеко еще не эмансипировались от возвеличения телесной силы, чему жизнь дает на каждом шагу многочисленные примеры.5
Этот культ физической силы является страшным подрывом для диаметрально противоположной ему системы упражнения нравственных достоинств человека. Но он, кроме того, еще подготовляет почву для войны и воинственности, которые, в свою очередь, как грубое нарушение любви к ближнему и известной заповеди (не убий), также подрывают лучшие чувства общества. Правда, некоторая доля зла парализуется той самой иллюзией, которая облегчает его победу (согласно пункту 5 схемы) и которая здесь, как и в приведенных выше примерах частных, немассовых убийств, очень крепко сидит в нашей голове. Каждый воин далек от мысли, что он виновен перед своей совестью. Напротив, долг каждого гражданина – защищать отечество своей грудью. Солдат должен повиноваться, а не рассуждать. Война освящена веками. Притом, это для каждого борца только вынужденная самозащита, ибо если он не убьет, то его убьют и т. д. Все эти сами по себе, безусловно справедливые мысли вертятся, наверно, в голове каждого, обладающего некоторой нравственной чуткостью воина, особенно на первых порах его деятельности, когда привычка не сделала своего дела. Поэтому они в значительной степени заглушают внутренний голос - не убий, так что солдат, убивая ближнего, благодаря неотразимой иллюзии мысли, действительно почти не насилует своей совести.
Однако приспособление к злу имеет и здесь свои границы (пункт 5). Солдат невиновен в убийстве, более того, он – мученик долга, но сама санкция убийства и насилия над другими людьми как неизбежного якобы зла, не проходит даром для нравственного мировоззрения как дерущихся, так и посылающего их в бой общества. Конечно, при повторных войнах, когда общественно-нравственный барометр уже раз стал на низкой точке, каждое дальнейшее его понижение не будет очень заметно, а иногда даже уступает место обратному движению, именно если поражение, неудачи и народные бедствия вызывают реакцию против войны в общественном самосознании; такое положение дела было у нас после Крымской кампании. Но когда после длительного мира, заложенные в человеческой душе добрые семена успели уже дать здоровые ростки гражданского прогресса, когда в эпоху «либерализма» общество, поддавшись соблазнам шовинистов, вдруг сворачивает на прежний путь зла, санкционируя кровопролитие и насилие над другим народом, то внезапное оскудение в нем любви и идеалов прямо бросается в глаза. Наступает критический момент в жизни народов. Нравственная мощь, скопленная в предшествующую эпоху гражданской добродетели, гарантирует блестящие победы на поле брани, которые, однако, по непривычке людей к размышлению и анализу, приписываются не старому, но новому, воинственному направлению. Последнее, таким образом, одерживает верх, и если торжество это окончательное, то апофеоз грубой силы, вследствие единства наших чувств и представлений, распространяется вскоре и на область гражданских отношений, возвышенные идеалы общества все больше тускнеют и мало-помалу общественный режим свободы вытесняется, если можно так выразиться, режимом кулака.
Такая метаморфоза именно произошла с древнеримской республикой, постепенно путем войн приблизившейся к цезаризму; совершенно тот же оборот приняла первая французская революция с того момента, как она вступила на путь внутренних и внешних кровопролитий.6 В высшей степени также поучительно, что и недавно еще в той же Франции продолжительная проповедь кровавой мести по адресу немцев сильно повредила республике и едва не одарила французов новым цезарем, хотя и довольно низкопробным (Буланже). Также очень знаменателен тот факт, что и в либеральном настроении русского общества конца пятидесятых годов первый сигнал к отступлению был подан событиями, относящимися к польскому мятежу.
Уже одна проповедь войны, обыкновенно идущая вместе с проповедью национальной ненависти, наносит самый чувствительный удар идеалистическому мировоззрению или нравственному уровню общества. Этим, благодаря своему чутью, и пользуются обыкновенно политические партии, враждебные прогрессу, под которым они усердно роют могилу, особенно путем возбуждения международной ненависти.
Наконец, с развиваемой нами точки зрения, не можем не упомянуть еще об одном общественном факте, что массовые убийства на войне слишком часто сопровождаются картиной общей страшной разнузданности человека, выражающейся грабежом, жестокостями и особенно половым беспутством. Общеизвестно также, что нередко солдаты в военное время принимаются грабить и «своих». «Вид крови опьяняет», - говорят бывалые люди; другими словами, крушение одной могущественной преграды («не убий»), вследствие взаимной связи и солидарности, увлекает с собой на время и другие наши нравственные устои, так что человек как бы стушевывается, уступая место зверю.
1 В Швейцарии или Северной Америке толпа иногда окружает тюрьму и требует смерти какого-нибудь тяжкого, обагренного кровью преступника, из опасения, чтобы он не ускользнул от руки правосудия. Напротив, дикие народы нередко ограничивают наказание убийцы штрафом. Такое неодинаковое отношение к делу зависит не от жестокости первых и не от милосердия последних, а как раз от обратных причин. У нас, по-видимому, не все понимают это явление.
2 Поэтому и современный европейский анархизм, как апофеоз материальной силы и насилия не только бессилен создать что-нибудь лучшее в жизни, но сулит народу и обществу утрату и той доли политических благ, которой европейцы обязаны предшествовавшему культу идеализма. По своей крайней политической неопытности и философской неразвитости, рабочие только протягивают руку своим исконным врагам – крайним реакционерам и «приверженцам старины». По той же причине и у нас в России, роковое событие 1-го марта 1881 года и целый ряд предшествовавших убийств почти совсем истощили запас общественного идеализма 70-х годов и понизили намного градусов настроение общественной совести, так что новое течение государственной жизни сделалось почти неизбежным.
3 Иллюстрацией взаимного отчуждения народов может служить довольно распространенная в низших классах легенда о «паре», которой нации иногда приписывают друг другу, вместо настоящей души.
4 «Чем больше разницы внешней, тем больше сходства внутреннего». 5 Так, дикие звери импонируют массе своей силой, а льву народное воображение, единственно на основании жестокости этого животного, приписывает даже благородство и, так сказать, душевное величие («царь зверей»). Это значит, что даже на низших ступенях развития сознание и мысль человека, когда на их контроль поступает, как продукт бессознательной психологической деятельности, обаяние перед грубой физической силой, отказываются санкционировать это чувство, как таковое, но относят его предположительно к чисто нравственным качествам. Такого же происхождения народная идеализация всех представителей грубой силы, дающая последним прочную точку опоры в жизни. В этой идеализации нередко черпают силу и те, кто достигает своей цели преступлением и кровопролитием. Так, Наполеон 3, бывший раньше смешным, сразу вырос в глазах французов, когда он залил улицы Парижа кровью. Восточные деспоты жестокостью также внушают к себе не столько страх, но и уважение или даже благоговение. Бок о бок с поклонением физической силе обыкновенно идет и другой, родственный и столь же пагубный инстинкт - обаяние перед блестящей внешностью. Таким образом, у диких народов достаточно какому-нибудь вождю быть жестоким и окружать себя блестящей обстановкой, чтобы заслужить в общественном мнении ореол величия и внушить к себе повиновение. 6 История свидетельствует, что уже казнь Людовика 16, как злое и несправедливое дело, стало поворотным пунктом в настроении французского общества, которое с этого момента уже до известной степени охладело к лучшим заветам первой эпохи революции.
|


 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕГЕТАРИАНСТВО
ВЕГЕТАРИАНСТВО  МЕХ
МЕХ СОБАКИ
СОБАКИ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Видео
Видео  Фото
Фото  Книги
Книги  Листовки
Листовки
 Закон
Закон  НОВОСТИ
НОВОСТИ
 О
нас
О
нас  Как
помочь?
Как
помочь?
 Вестник
Вестник
 СМИ
СМИ
 Ссылки
Ссылки  ФОРУМ
ФОРУМ  Контакты
Контакты 

 ПОИСК НА САЙТЕ:
ПОИСК НА САЙТЕ:






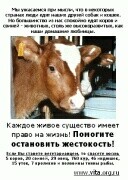
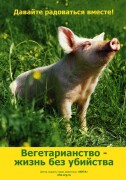



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































