|
«Спутник здоровья»
общедоступная медицинская и гигиеническая библиотека
№11
Вегетарианство
или безубойное питание
с нравственной и
медицинской точек зрения
Д-ра Бернарда Шапиро
Бесплатное приложение к журналу «Спутник Здоровья»
за ноябрь 1900 года
Издание "Посредника"
для интеллигентных читателей
С.–ПЕТЕРБУРГ
Типография Товарищества «НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА»
Коломенская ул. Собств. дом, 39
1900
Дозволено цензурой. С.-Петербург 7 ноября, 1900 года
СОДЕРЖАНИЕ:
VII. Примеры, поясняющие закон нравственности
и мнимые исключения из него
Крепостное право в нашем отечестве было жестоким попранием со стороны эгоизма и властолюбия естественного чувства равенства всех людей, присущего от рождения каждому человеку, и особенно живо ощущаемого каждым из нас в детстве, пока оно еще не сглажено суровой школой жизни. Поэтому рабство нашего народа было гибельно не только для крестьянина, но и для всего общества, поддерживая на низком уровне всю систему его альтруистических чувств. Любовь к ближнему, сострадание к несчастным, общественная благотворительность, любовь к правде и справедливости, как в личных, так и в гражданских отношениях, правосудие и прочее – все это было придавлено, жалко. Все это, напротив, распустилось пышным цветом, как только эгоизм и жадность были монаршею волею призваны к порядку, как только отрицательное упражнение в одной части нравственной системы уступило место нормальному положительному.
Семейный и чиновный деспотизм и многие другие язвы дореформенной России были только заслуженной карой, вытекавшей из непреложных законов психологии, за то, что где-то в деревне относительно каких-то людей попирали ногами божественный закон любви и правды.
Что крепостное право было также тесно связано с половым развратом, это слишком хорошо известно и зависело не от одной только возможности располагать женщинами. Оно шло также об руку с обжорством и пьянством, которые, как и разврат, были лишь выражением неразрывной связи, существующей между системой любви и системой воздержания. Человек, нарушающий закон любви относительно ближнего, не находит в себе даже достаточно мужества, чтобы совладать со своими естественными инстинктами.
Впрочем, развращающее действие крепостного права находило некоторый отпор в иллюзии мысли и самовнушении, которое сводилось к тому, что «народ – дитя, которое нуждается в опеке», что «помещик для крестьян то же, что отец для детей», что «равенства на земле быть не может», что «народ – зверь, нуждающийся в узде» и в других распространенных в то время фразах. Еще сильнее должна была быть иллюзия в древнем мире, не знавшем еще света христианства, когда в рабство обращали завоеванный и совершенно чуждый народ. Тем не менее, разъедающее действие этого учреждения на нравственные основы общества засвидетельствовано историей.
Римский император Нерон и другие цезари, будучи в душе почти атеистами, тем не менее, подвергали жестоким преследованиям христиан, хотя последние вовсе не занимались политикой, и, казалось бы, были для правительства не опасны. Между прочим, преследовались и вегетарианцы.1 Причина этих, на первый взгляд, странных явлений кроется в том, что некоторые законы психологии угадываются нами, т.е. доходят до нашего сознания и помимо точного анализа мысли только чутьем, особенно когда в дело замешивается инстинкт самосохранения или как говорил наш великий Щедрин - «шкурный вопрос». Для древнего деспота шкурный вопрос сводился к удержанию в своих руках власти, как источника безумных наслаждений. И вот, при виде горсти безобидных людей и подвижников со дна преступной души поднимается тревога, как бы направление, которому они следуют, не вырвало власть из рук тирана. Это – настоящий, почти панический страх перед добродетелью, так как злой и дурной человек угадывает в ней целую систему, различные члены которой – ограничение плоти (полового чувства и угождение желудку), чувство правды, как в личных, так и в общественных отношениях, любовь к гражданской свободе и т.д. связаны между собой неразрывно друг друга, и, следовательно, могут создать под ногами деспота враждебную ему почву.
Чрезвычайно поучительный пример непонимания людьми закона добра дают нам взаимные отношения между нациями, большей частью носящие на себе печать ненависти. Такому вырождению вполне законного и полезного чувства международного соревнования (в добре) - этого естественного нравственного инстинкта, принадлежащего к системе любви (о чем речь была в своем месте), особенно содействуют чуждая внешность и чуждый язык инородцев. Дело в том, что любовь наша к человеку более всего и легче всего распространяется на нас подобным; между тем, сознание массы, невооруженное знанием других народов, не сразу и нелегко угадывает под чуждой внешностью и непонятным языком, те же чувства и те же мысли, которые живут и в ней самой.
К этому присоединяются еще доводы ума-соблазнителя, чтобы заглушить протест нравственного чувства (любви к человеку), не допускающего беспричинной ненависти к ближнему («это – совсем не такие люди, как мы; у них не душа, а пар; они нехорошие люди и менее нас следуют добрым началам жизни; они желают нам зла, а потому ненависть к ним - есть долг патриотизма» и т. д.). Таким образом, ненависть между соседними, особенно конкурирующими на экономическом поприще народами, укоренилась в чувствах почти всех народов и являлась до сих пор одним из самых важных тормозов человеческого прогресса. Она не только подготавливает почву для войн, но и в мирное время, согласно приведенной выше схеме нравственно-психологического закона (пункт 4), самым чувствительным образом понижает весь нравственный уровень общества, хотя мнимые доводы ума, доставившие победу злу, в то же время также несколько парализуют последнее (иллюзия мысли, пункт 5).2
Если наши рассуждения кажутся читателю слишком отвлеченными или недостаточно убедительными, то он, наверно, переменил бы свое мнение, вооружившись достаточным запасом наблюдений в области гражданских отношений. Очень часто в этой сфере разыгрывается перед нашим умственным взором целая драма, правильная оценка которой народными массами, вероятно, составила бы поворотный пункт истории человечества. Происходит вот что. Положим, что в какой-нибудь древнеримской империи времен Нерона на политическом горизонте вдруг выглянуло солнце свободы и правды, разогнало заволакивавшие его прежде тучи тирании и водворило сразу или постепенно правосудие, упразднило рабство и т.д. Новый порядок вещей вызывает общие восторги, но имеет и тайных врагов, приверженцев прежней общественной неправды, с которой были связаны их материальные интересы и общественное положение. Они, однако, не смеют прямо обрушиться на торжество правды и открыто выступить против знамени добра, так как народ в этом деле никогда их не поддержит. И вот, повинуясь политическому опыту, но особенно своему чутью, которое нередко сразу поднимает завесу с законов психологии, они выбирают совсем другой путь. Они начинают, например, пропагандировать войну с внешним «врагом» или же муссируют задремавшую ненависть или нерасположение народа к «внутреннему врагу» (например, в эпоху Нерона к первым христианам), имея в виду только одну цель: как бы добиться «отрицательного упражнения» хотя бы в одном из звеньев системы добра. После чего, успех их дела – понижение всего нравственного уровня общества будет обеспечен, и неизбежно тогда возвращение к старым порядкам. Для этого они и выбирают наименее защищенное и наиболее слабое у народов место в психической системе любви – отношение к внешним или внутренним инородцам или иноверцам.
Такая политика, к несчастью, до сих пор почти всегда оправдывала «возлагавшиеся на нее надежды». Между прочим, она на наших глазах сделала свое дело и во Франции. Еще много лет назад, партии, враждебные республике, разожгли в народе идею реванша (кровавой мести по отношению к немцам), надеясь через нее пожать со временем обильные лавры в смысле внутренней реакции. И они не ошиблись: буланжизм и самые свежие, недавние события довольно убедительно говорят нам об осязательном падении барометра гражданской добродетели. Это общее падение произошло оттого, что в течение нескольких десятков лет общество и подрастающее поколение упражнялось в злобе и жажде крови по отношению к соседнему народу.
Полное подтверждение нашей схемы дает и китайская цивилизация, краеугольным камнем которой является, как известно, культ предков или, другими словами, почитание родителей. Таким путем, при помощи непрерывного и форсированного упражнения одного и самого первого звена системы любви («люби отца своего и мать свою») достигается общее накопление любви и воздержания (согласно пункту 4 схемы), что и составляет задачу каждой истинной культуры. Да и фактически, от зоркого глаза наблюдателя не может ускользнуть, что как ни велики в Китае политический застой и размеры злоупотреблений, семейная, гражданская и политическая жизнь народа там все-таки зиждется на прочном фундаменте его идеализма.
Что касается до системы тормозящих чувств, то, как уже замечено выше (пункт 3), на основании наблюдения мы должны рисовать себе их как ряд плотин, удерживающих более или менее сильный натиск наших желаний. Поэтому особенно важен первый прорыв плотины, т.е. первый случай ее несостоятельности, после которого она оказывается как бы поврежденной и неспособной больше исполнять свое назначение, так что мало-помалу она совсем уносится потоком.
Так, например, первое нарушение целомудрия или первая супружеская измена стоит всякой нравственно-развитой женщине немалой борьбы (в которой победа может легко остаться и на стороне добродетели, если только плотина окажется достаточно крепкой). Второе грехопадение достается ей уже гораздо легче, а впоследствии оно уже не будет встречать никакого внутреннего препятствия – никаких «угрызений совести». То же самое повторяется с кражей, убийством, ложью, опьянением, взяточничеством и т. д. Можно было бы даже сказать в применении ко всем этим случаям: «Рубикон перейден и нет возврата», но это было бы не совсем верно. Смытую потоком плотину можно построить вновь, и стертое в мозгу нравственное представление также иногда восстанавливается в прежнем виде, или даже приобретает особую небывалую прежде мощь, но только при условии сильной нравственной реакции или нравственного возрождения (кающаяся Магдалина). К сожалению, такой поворот дело принимает преимущественно только у «глубоких натур», т.е. при значительном запасе любви и воздержания, так что самое падение объясняется единственно огромной неудержимой силой натиска. Большинство же людей, совершив один раз проступок или преступление, попадают на наклонную плоскость, по которой они скользят вниз с большей или меньшей быстротой.
Это почти закон психологии, потому, нет никакого основания искать в каждом преступнике-рецидивисте непременно признаков какого-то особого, физического и врожденного типа, как это делают часто последователи Ломброзо.
Но повреждение одной из плотин не только открывает широко двери известному проступку или преступлению, оно еще, согласно пункту 4 нашей схемы, расшатывает и всю систему тормозов, ослабляя в то же время и источник любви. Так, когда Фауст предлагает Маргарите подсыпать матери в пищу какого-нибудь усыпительного порошка, то добродетельная до сих пор девушка не приходит в негодование и не отталкивает от себя соблазнителя, как негодяя, единственно потому, что готовящееся в ее душе торжество полового чувства над соответственным тормозом, уже успело вызвать нравственное падение героини «по всей линии» воздержания и любви. Бесспорно, что это падение подготовляет и столь обычную в таких случаях кровавую расправу с «плодом тайной любви». Поэт также не ошибся, поставив на сцену еще одно убийство (брата Маргариты), так как в жизни легкое отношение к известной заповеди очень часто и роковым образом идет бок о бок с пролитием крови, кражей, пьянством, гражданской нечестностью и т. д. Когда любовник убивает изменившую ему женщину, то причиной во многих случаях является не столько пылкая страсть (т.е. сила искушения), сколько слабое внутреннее противодействие эгоизму, который своим длительным торжеством в половой сфере, заставил побледнеть любовь и сострадание к ближнему. Самый крайний пример общего падения представляют привычные проститутки, которые в большинстве случаев действительно очень злы и близко стоят к уголовщине. 3
Но оправдание вышеупомянутого правила выступает особенно рельефно в судьбе целых сословий, обществ или наций. В этой области едва ли история в состоянии принести хотя бы один пример, где бы половая распущенность не шла рука об руку с чудовищным обжорством, пьянством, убийством, вообще с обще-нравственной и гражданской развращенностью. Те, которые с неудержимой силой бросаются на путь наслаждений, отвергая всякое воздержание, обыкновенно не знают другого закона жизни, кроме своего эгоизма, а потому они безумно идут к своей цели через кровопролития, предательство, политические насилия и т.п.
История давно засвидетельствовала, что разложение семьи – это первое фатальное последствие полового разврата – всегда служило началом разложения всего общества, которое скрепляется главным образом любовью и воздержанием своих членов.
В современной Франции упадок политических нравов подготовлен в значительной степени сильно распространенной половой распущенностью граждан (Жюль Симон).
Развращенные женщины, жаждущие плотских наслаждений, почти никогда не бывают хорошими матерями (от которых требуются любовь, воздержание, самоотверженность) и лишь редко отличаются гражданской добродетелью. Половая распущенность мужчин также растлевает их душу и отражается самым гибельным образом на гражданской и политической жизни общества, так как насилие над одним из самых громких запретов совести является роковой школой для дальнейших сделок с ней на различных поприщах общественной деятельности. Эта истина ясно сознается спокон века многими народами, но европейские образованные классы, сбитые с толку языческой волной эллинизма, хлынувшей к нам еще в средние века, вместе с так называемым возрождением наук и искусств, по-видимому, перестали ее вполне понимать. Подкупленные физическим инстинктом, мы стараемся заглушить внутренний протест разными аргументами и в особенности наглядными примерами людей, которым богатая «романами» жизнь не мешала будто, быть добрыми, честными и т.д. При том, у всех на виду имена поэтов, писателей, художников, министров, которым безнравственная жизнь не мешала дарить человечеству продукты своего гения или расточать народу благодеяния законодательной мудрости. Однако здесь кроется недоразумение.
Когда я говорю: «Иван был глух на одно ухо, да и Павел тоже, между тем, оба были порядочными музыкантами, следовательно, занятие музыкой вовсе не требует хорошего слуха», то в основе ложного вывода лежит неправильное применение статистического метода, позволяющего делать заключения, как condition sine qua non, только на основании больших чисел, другими словами, вывод наш был бы правилен, если бы только большинство музыкантов имело неудовлетворительный слух. В наших суждениях о выдающихся людях, которые соединяли подвиги любви к ближнему (самопожертвование, гражданское мужество, обширную благотворительность и т.п.) с систематическим нарушением известной заповеди («не прелюбодействуй»), мы грешим той же ошибкой. Мы вовсе не думаем об отношении числа этих лиц к числу таких же людей, ничем не запятнавших свою частную жизнь, но примеры первых врезаются в нашу память, как поражающие нас исключение из того развиваемого здесь общего закона нравственности, который крупными литерами вырезан на фоне нашей души, хотя только немногими из нас сознается в полном его объеме.
Так как ум-соблазнитель, пытаясь в интересах наших желаний подорвать наше доверие к основам нравственности, часто ссылается на вышеупомянутые исключения, то небесполезно взглянуть и на них при свете анализа и убедиться, действительно ли эти факты говорят против взаимной связи между разными положениями морали (или между разными членами нашей системы общего нравственного уровня).4 Прежде всего, из интересующего нас контингента лиц мы должны вычеркнуть представителей чистой мысли и так называемого искусства. Ученые, техники, служители Мельпомены и тому подобные люди своими талантами совсем или почти не принадлежат к области добра любви. Совсем иное дело – общественные деятели, почти не покидающие почвы нравственных вопросов. Когда такие люди творят одной рукой добро, а другой – зло, когда, например, на общественной арене они руководятся благом ближнего, а в своей частной жизни отдаются без удержу половому влечению, то с точки зрения нашей схемы, такие, правда, исключительные, но все же очень яркие факты заслуживают полного внимания.
Прежде всего, тут замешан тот закон нравственного приспособления или заблуждения мысли (пункт 5 схемы), о котором мы уже говорили по поводу рабства или крепостничества и который усложняет действие почти каждого нравственного правила. Между прочим, он дает нам ключ к объяснению, так сказать, привилегии разврата, которую присвоил себе мужчина перед женщиной. Сделавшись в эпоху господства материальной силы и физических инстинктов повелителем женщины, мужчина очутился лицом к лицу перед соблазном и, поддержанный мнимым доводами ума, поддался инстинкту. И вот (согласно пункту 5 нашей схемы), рядом с представлением, исчерпываемым известной общей для обоих полов заповедью, сложилось в нашей душе и другое, противоположное, опирающееся на целый ряд аргументов: «Мы, мужчины, иначе созданы, чем женщины, и то, что важно для них, для нас необязательно. Главной пробой нашей нравственной состоятельности является не наше половое воздержание, как у женщин, а наши качества на общественной, государственной службе и на арене обычных гражданских отношений. Женское грехопадение дает непосредственно нежелательные «результаты», наше же проходит бесследно (?)» и т.д. Это новое представление, хотя не вытеснило вполне первого и основного, но до известной степени упразднило его. Вследствие этого, греховные поползновения холостых и женатых мужчин не наталкиваясь вовсе или, вернее, наталкиваясь лишь на относительно слабый нравственный барьер, который они легко преодолевают, по этой причине и не причиняют всей системе нравственных плотин того сильного потрясения, которое неминуемо в душе женщины и которое, сообщаясь также системе любви (пункт 4), вызывает ощутимое движение вниз всего нравственного барометра. Вот почему обыкновенная женщина, споткнувшись на пути полового влечения, действительно «падает», т.е. падает по всей линии своего нравственного уровня, между тем, мужчина еще сохраняет в сокровищнице души известный запас не только любви, но и воздержания (по отношению к другим пунктам нравственности).
Эти рассуждения также объясняют нам, почему и для очень малочисленного еще класса современных женщин, предающихся мужским профессиям, особенно же для писательниц и художниц, человеческая совесть и общественное мнение также допускают если не ту же самую незавидную «привилегию», которой пользуются мужчины, то, по крайней мере, нечто в этом роде. Например, женщина-врач может облегчать себе грех, рассуждая, подобно мужчине, что она свое нравственное чувство помещает в великом деле служения страждущему человечеству и что поэтому целомудрие и супружеская верность не составляют для нее, как и для других женщин, центр тяжести всей ее нравственности.
Кроме того, писательницы, поэтессы или женщины-правительницы имеют возможность обманывать свою совесть еще другими ухищрениями ума-соблазнителя, которыми нередко пользуются в их положении и ранге, как сугубой привилегией, мужчины. Конечно, главная причина развращенности этих лиц обоих полов лежит в искушении, которое проистекает из нравственной или материальной власти над обществом.5
Но победе физического инстинкта предшествует самовнушение мысли, которое подготовляет эту победу и, вместе с тем, наполовину предотвращает последствия от нее для общей нравственности («гению дозволено то, что возбраняется простым смертным; гений направляет всю свою энергию, как умственную, так и нравственную, в сторону своего высшего назначения» и т.п.).
Вторая причина мнимых отступлений от общих законов нравственности лежит в индивидуальных анатомо-физиологических колебаниях нравственных центров, т.е. центров всех нравственных чувств. Мы уже говорили (пункт 4), что взаимная связь и солидарность этих клеток, так сказать, не обезличивает их, не лишает каждую из них своей индивидуальной физиономии. Поэтому у одного человека может преобладать по напряженности функции одна клетка, у другого – другая (так что от соединения верхушек линий, выражающих графически эти функции, получается ломаная линия, при том, неодинаковая у разных людей). Так, представим себе для примера, что у кого-нибудь от природы или от упражнения центры (или клетки) нравственной любви преобладают над центрами воздержания: следовательно, это будет человек с добрым, любящим сердцем, но мало воздержный. Допустим, что его добрые дела, т.е. положительное упражнение одной части нравственных центров, будут (согласно пункту 4) повышать весь его нравственный уровень (всю ломаную линию), следовательно, благотворно действовать и на его чувство воздержания. Но так как последнее и после прибыли остается вообще относительно на низкой ступени развития, а богатый запас сердечной доброты и после убыли, причиненной невоздержанием, все еще сохранился, то при неточности наших методов наблюдения, прибыль и убыль ускользают от нашего внимания, а контраст между добротою человека и его невоздержанностью будет по-прежнему бросаться в глаза.
Если функциональная отсталость распространяется не на все центры воздержания, но лишь на те из них, которые задерживают половое влечение, то мнимое исключение из нашего закона готово: такой человек или такие люди будут казаться убедительным доказательством отсутствия якобы связи между общей и половой нравственностью, хотя на самом деле его безнравственный образ жизни умаляет и его богатые запасы любви.
Мы сравнивали сейчас систему любви с системой воздержания. Но так как и разновидностям нравственной любви отвечают различные психические центры, из которых одни в функциональном отношении могут преобладать над другими, хотя бы вследствие чрезмерного упражнения первых и слабого упражнения последних, то и это является законом нравственности. Например, очень нередко у людей семейные добродетели берут перевес над гражданскими, вследствие недостаточного упражнения последних, так что идеальный, самоотверженный отец является плохим гражданином, который не останавливается иногда перед взяткой, подкупом, изменой и т.д. Это большей частью стоит в связи с подавлением общественной и гражданской жизни общества и есть заурядное явление на востоке, поэтому и местным правителям религиозное благочестие и культ добродетели в бытовых отношениях подчас не мешает, к несчастью, быть настоящими головорезами и разбойниками на арене политической борьбы. Напротив, среди образованных людей некоторых стран, пользующихся политической свободой, мы встречаемся нередко с обратным явлением: достойные граждане иногда оставляют многого желать в отношении их семейных добродетелей и половой нравственности.
Однако все перечисленные нами исключения отнюдь не подрывают правила. Как бы ни захирели, например, от недостатка упражнения центры гражданских добродетелей, все-таки прибыль энергии в соседних клеточках, источниках семейной любви, распространяется некоторой своей долей и на первые, только это не выведет их из состояния вековой дремоты, т.е. относительной бездеятельности, обусловленной строем всей жизни, и на практике не будет очень заметно. Так, чем больше нежности какой-нибудь восточный властелин обнаруживает по отношению к своим детям, тем больше можно надеяться и на некоторое относительное смягчение его политической жестокости. Что это именно так, доказывается как психологическим анализом и самоуглублением, причем каждый из нас непосредственно воспринимает своими чувствами эту связь и взаимную солидарность различных сторон любви и нравственности, так и множеством отдельных и в особенности массовых примеров. Равным образом, и те кажущиеся исключения из правила, которые вызваны иллюзией мысли, т.е. законом нравственного приспособления, только подтверждают правило, так как и мужчин и женщин в приведенных выше примерах, их иллюзии и самообман не спасают от неизбежного общего нравственного падения, а только несколько его задерживают и делают менее резким.
Теперь, дорогой читатель, увидев в настоящем свете закон любви и воздержания, разобрав для примера некоторые виды последнего, мы сумеем правильно оценить и нарушение другого, притом самого главного правила воздержания, которое, можно сказать, огненными буквами вырезано на фоне нашей души и сознания.
Это правило есть:
1 Это видно из одного письма Сенеки к его другу Люциниусу.
2 Другими словами, насколько человек искренне убедился софизмами или заблуждениями мысли, настолько он своей мотивированной ненавистью к представителям известной нации не насилует свой совести, следовательно, не рискует общим понижением своей нравственности, по пункту 4. Но и тут, как и в других аналогичных случаях, иллюзия никогда не бывает полная, так как и аргументы мысли «хромают», да и нравственное чувство, хотя бы по отношению к данному случаю, не так легко дает себя стереть. Вот почему только немногие люди соединяют ненависть к инородцам с более или менее выдающейся любовью к близким, к отечеству, воздержанием и т.д.; большинство же «узко национальных патриотов» и «шовинистов» стоят на низком нравственном уровне, который является как причиной, так и последствием воодушевляющей их ненависти.
3 Многие из интеллигентных читателей при этих строках, пожалуй, сомнительно покачивают головами и жалеют об отсталости наших суждений. Скептическое отношение к браку, как к установлению церкви, и мирволение «свободной любви» сделались почти обязательным пунктом гражданского кодекса убеждений большинства развитых и либерально мыслящих людей. Между тем на деле здесь, как и во многих других вопросах, мы только пожинаем горькие плоды нашего неумения разбираться в собственных мыслях и чувствах, нашей непривычки к правильному мышлению и анализу. Если бы не это обстоятельство, то для нас было бы ясно, что поводом для отрицательного отношения к брачным узам (оставляя в стороне людей безнравственных, руководимых лишь инстинктом) является собственно не брак как таковой, а та неправильная постановка семьи, которая зависит от деспотизма мужей и рабства женщины, от безнравственных поползновений одного или обоих супругов, от неправильных или ненормальных условий заключения брака (без взаимной любви и взаимного понимания супругов) и т.д. Словом то общее зло, которое подрывает все человеческие отношения, проникло и в семью, поколебав наше уважение к этому важному устою жизни. Равным образом нам стоило бы только вдуматься в это дело, особенно опираясь га столь популярную в наше время физиологию и на психологию, чтобы прийти к убеждению, что основные положения брака – единственная на всю жизнь половая связь и санкция общества в виде торжественного заявления о ней – вполне отвечают требованиям науки и закона целесообразности. Развратная жизнь уже в силу грубо физиологических и медицинских соображений низводит до минимума плодовитость женщин (а вероятно и способность мужчин к оплодотворению). Но, что еще страшнее, она выдвигает вперед нашу животную натуру – наши физические инстинкты и грубый эгоизм – в ущерб нравственной любви и воздержанию; словом, она будит в нас животное и усыпляет человека, вызывает общее нравственное падение. Поэтому необходимо, чтобы каждый человек подчинял свою половую жизнь известной норме, вырабатываемой общественным мнением. Из таких норм – многомужества, многоженства и одноженства или христианской нормы брака – последняя наиболее отвечает нравственной натуре человека и условиям общего блага. К этой норме и приспособляется естественное чувство целомудрия или полового воздержания. Нарушение ее доказывает, что человек вообще не держит в руках свой инстинкт, являясь его рабом, а не господином; а такой человек ненадежен не только в смысле супружеской верности (ибо первый шаг или первый прорыв плотины, согласно пункту 3 нашей схемы, всего важнее), но и в общенравственном и в гражданском отношении (пункт 5). Девушка, которая до замужества «согрешила» хоть раз, справедливо внушает к себе недоверие и как женщина, и как будущая мать, ибо в матери особенно ценятся нравственная выдержка, отсутствие эгоизма и погони за наслаждениями, самоотверженность и т.д. Если в женщине самка преобладает над человеком, то она не только не сумеет воспитать «хороших» людей, т.е., должным образом развить в своих детях любовь к ближнему и воздержание, но она не сумеет даже спасти их от когтей смерти в том возрасте, когда юный и слабый организм со всех сторон окружают опасности. Что же касается предварительной огласки перед обществом начинающейся связи (в виде торжественного акта венчания), то, помимо ее важности в смысле обязанностей супругов друг перед другом и перед обществом, она-то и служит пробой половой выдержки или необходимой гранью, отделяющей воздержание от невоздержания. Наконец, даже религиозная обстановка вступления в брак и обращение к Творцу имеют своей разумной целью выдвинуть в сознании молодых супругов те предстоящие им высокие нравственные задачи, которые простой физический инстинкт возводит на степень выдающейся социально-нравственной миссии. 4 Ниже читатель поймет, почему мы, с точки зрения нравственного оправдания вегетарианства, так подробно останавливаемся на некоторых законах психологии. 5 Впрочем, рядом с этим мотивом, и нисколько его не устраняя, у гениальных людей может играть более или менее важную роль и невропатичность, которая, к сожалению, очень нередко сопутствует таланту.
|


 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕГЕТАРИАНСТВО
ВЕГЕТАРИАНСТВО  МЕХ
МЕХ СОБАКИ
СОБАКИ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Видео
Видео  Фото
Фото  Книги
Книги  Листовки
Листовки
 Закон
Закон  НОВОСТИ
НОВОСТИ
 О
нас
О
нас  Как
помочь?
Как
помочь?
 Вестник
Вестник
 СМИ
СМИ
 Ссылки
Ссылки  ФОРУМ
ФОРУМ  Контакты
Контакты 

 ПОИСК НА САЙТЕ:
ПОИСК НА САЙТЕ:






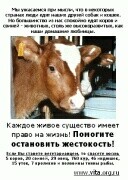
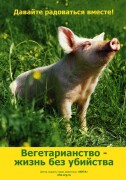



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































