|
«Спутник здоровья»
общедоступная медицинская и гигиеническая библиотека
№11
Вегетарианство
или безубойное питание
с нравственной и
медицинской точек зрения
Д-ра Бернарда Шапиро
Бесплатное приложение к журналу «Спутник Здоровья»
за ноябрь 1900 года
Издание "Посредника"
для интеллигентных читателей
С.–ПЕТЕРБУРГ
Типография Товарищества «НАРОДНАЯ ПОЛЬЗА»
Коломенская ул. Собств. дом, 39
1900
Дозволено цензурой. С.-Петербург 7 ноября, 1900 года
СОДЕРЖАНИЕ:
VI. Законы нравственности
Вегетарианство, как мы уже заметили вначале, представляется многим какой-то далекой от жизни теорией, продуктом досужей фантазии, совсем непригодным для людей жизни и настоящей жизненной обстановки. Большинству совершенно непонятно, почему убой животных и мясоедение наносят ущерб любви к людям и нравственности: да и что греха таить – эти самые добродетели не занимают в нашем сознании подобающего им места. На словах мы, конечно, готовы ежеминутно под ними расписаться, но если заглянуть в самую глубину наших чувств и понятий, тех настоящих чувств и настоящих понятий, о которых свидетельствуют только наши поступки - этот единственно верный для них критерий, то мы натолкнемся там на нечто, не совсем согласное с нашими торжественными заявлениями. Там мы увидим, что большинство людей считает добродетель, скорее украшением души, чем ее законом, скорее подвигом, которого мы требуем от другого в нашу пользу, чем реальнейшим условием нашего собственного счастья.
Происходит это оттого, что в нравственной области даже так называемые умные люди «не видят дальше своего носа». Чтобы понимать законы души и социальных отношений, надо их также правильно анализировать, как мы анализируем явления внешнего и материального мира. Но, по-видимому, такая сочетаемая работа ума и «сердца», такое самоуглубление мысли и чувства наталкивается на неизмеримо большие препятствия, на гораздо больший запас душевной инерции, чем обычное объективное мышление; поэтому мы и отлыниваем от этой работы, довольствуясь полумыслями или готовыми решениями, которые нам подсказывают привычка, чутье и т.п. Вот почему и основные нравственные законы нашей души – любовь и воздержание – до сих пор принимались нами только на веру, не проникли еще глубоко в наши убеждения и не понятны нам во всем их объеме; вот почему также эти законы, выражающие собой божественное начало жизни, еще не внесли достаточно света и тепла как во взаимные и международные отношения людей, так и в отношения их к животным.
Задача современного знания заключается в том, чтобы основы добра, вложенные в нашу душу Творцом и бывшие до сих пор только предметом веры, предстали перед людьми в ореоле доказанных и ясно понятных научных истин (которые вместе с тем суть и божественной истины). Хотя мы далеки от мысли взять на себя разрешение столь обширной задачи, однако мы не можем не пойти ей на встречу по уже раз избранному нами пути, чтобы показать читателям вегетарианской вопрос в его истинном свете и в неразрывной связи со всеми основами человеческой морали.
Сделаем краткое резюме всех вышеприведенных данных физиологии и психологии.
Высшее отправление мозга есть сознательное рассуждение, делающее выводы из уже усвоенных фактов или мыслей (мышление, ум, логические операции). Но этот сложный мозговой процесс требует времени, а в отношении к нравственным и другим вопросам жизни предполагает еще более или менее богатый запас знаний и порядочный навык в мышлении. Так как многие нужды человека требуют немедленного удовлетворения, то природа одарила нас и животных (еще менее нас способных к мышлению) несколькими категориями инстинктов и чувств, как ближайшими и быстродействующими регуляторами наших поступков, подчинив, однако, эти инстинкты, насколько это возможно у разных людей, высшему контролю мысли (или рассуждения). Из этих чувств и инстинктов одни побуждают к действиям, другие же тормозят, задерживают; одними обеспечиваются только интересы индивида и задача размножения породы (грубые, животные стремления), другие же имеют в виду общее благо и общие интересы, объемлющие собою и благо каждой личности (нравственные инстинкты – любовь к ближнему и воздержание во всех их разнообразных формах и проявлениях).
Наш мозг, как орган души, таким образом, уподобляется двигательной машине с чрезвычайно сложным тормозящим аппаратом (нравственные инстинкты и рассуждение), которым измеряется совершенство самой машины. В этом отношении поучительна полная аналогия, существующая между грубо-физиологическими или растительными отправлениями мозга и его душевными функциями, так как именно первые точно также подчиняются одновременно двум системам исходящих из головного мозга импульсов – двигательным и задерживающим. 1
Нравственное чувство человека и его любовь непрестанно подвергаются тяжкому испытанию, которое животным знакомо лишь в незначительной степени. Искусителем является, главным образом, наш ум. Его прямое назначение, как мы уже знаем, - господствовать над всеми нашими чувствами, как физическими, так и нравственными, и направлять их к личной пользе и общему благу. Так, голодающего и жаждущего он научит, как достать себе пищу или влагу, или же, наоборот, советует подавить на время эти чувства, если удовлетворение их может принести вред вместо пользы (например, при заболеваниях организма). При нападении на нас врага, жаждущего нашей смерти, когда внутри нас громко раздается голос: «не убий!» (один из нравственных инстинктов, вытекающих из любви к ближнему), ум говорит нам другое: «ты вынужден и должен защищаться или убивать, ибо в противном случае у тебя у самого отнимут жизнь». Человеку, преисполненному любви, тот же ум указывает пути, как наиболее целесообразным образом изливать эту любовь на своих ближних и т.д. Однако этим далеко не ограничивается работа мысли по отношению к нашим инстинктам. Вглядимся пристальнее в этот процесс, и мы тогда увидим, что ум или мысль, в сущности, играет здесь роль чисто нейтральной силы, которая, так сказать, с полным бесстрастием поступает на службу как к нашим физическим, так и к нравственным инстинктам, смотря по тому, какая сторона берет перевес.
Таким образом, когда чувство голода или жажды, преодолев известное нравственное представление об умеренности («не угождай чреву своему»), превращается в обжорство или пьянство; когда инстинкт самосохранения, победив любовь к брату, вырождается в эгоизм; когда честолюбие - одно из самых сильных и целесообразных общественных чувств, не удерживаемое чувством долга, ведет к политическому преступлению, или когда половое влечение, не получив должного отпора со стороны чувства половой нравственности (или нравственного представления «не прелюбодействуй»), принимает форму разврата, то ум не только нас не выручает, но даже открывает нам все новые средства и пути для более полного удовлетворения наших страстей. Но мало того, он еще постоянно делает усилия, чтобы заглушить самое нравственное чувство или так называемый голос совести, старается обмануть эту совесть.
Например, политическому честолюбцу его ум нашептывает, что побудительной причиной его эгоистических действий служит не личный расчет, а забота об общем благе.
Пьяница нередко утешает себя тем, что он пьет «с горя».
Люди, у которых национальное чувство, точнее, чувство национального соревнования, при недостаточной силе того источника любви, из которого оно вытекает (см. выше), принимает форму национальной ненависти. Люди далеко не всегда открыто сознаются в этом, но большей частью, обманывают и себя, и других, объясняя свою враждебность нравственными недостатками или пороками нелюбимой национальности, которая, следовательно, вполне заслуживает своего осуждения. К несчастью, с течением времени самообман, не разоблаченный при своем возникновении, пускает корни в наше сознание и превращается, таким образом, в искреннее убеждение. Это – обычный, роковой закон для всякой, даже самой грубой и вначале вполне сознаваемой лжи, если мы ее упорно повторяем, не встречая возражений.
Мужчина и женщина, преступая известную заповедь, чтобы подавить поднимающийся из глубины души протест. Они сплошь и рядом называют свое чисто физическое влечение (половой инстинкт) нравственной любовью, т.е. любовью к ближнему, которая естественно не вызывает никакой внутренней реакции, или же они внушают себе самим, что «перед Богом» они уже муж и жена и т.д.
Эта борьба наших нравственных чувств, отвечающих условиям общего блага и правильно понятому счастью каждой личности, с физическими инстинктами и эгоизмом составляет, по-видимому, основной закон нашей внутренней жизни. Это - та борьба в душе человека двух начал - доброго и злого, которую уже давно подметили мыслители и поэты. В этой борьбе ум обыкновенно становится на сторону сильного, поэтому, когда в душе нашей голос зла раздается достаточно громко, то ум является настоящим «змеем-искусителем», который своими ухищрениями старается окончательно заглушить протест совести, чтобы обеспечить победу за эгоизмом, пороком и преступлением.2
Эти соблазны ума, как нами будет подробно развито ниже, были решающим моментом и при первых посягательствах человека на тело животных. Так как при своем появлении на земле человек, подобно обезьяне, бесспорно, не знал иной пищи, кроме плодов этой земли, да и теперь еще они ясно звучат в большей части аргументов, приводимых защитниками мясной пищи. Но не всегда, однако, борьба доброго и злого начал в душе человека оканчивается победой последнего, как это случилось в вопросе о пище. Как везде в природе, так и здесь существует всегда известное соответствие между действием и противодействием, между физическими поползновениями или эгоистическими порывами, находящими поддержку в обольщениях мысли, и той сдерживающей и направляющей внутренней силой, которую мы формулировали в двух словах: любовь и воздержание. Как неотразима эта сила, видно уже из того, что торжеству зла в наших помыслах почти всегда предшествует обман совести. Другими словами, люди преступают правила: не убий, люби и т. д. не потому, чтобы они были свободны от этих сдерживающих влияний, от нравственного чувства или голосов совести, но потому, что они усыпляют свою совесть той или другой аргументацией. Не все наделены нравственным чувством в одинаковой степени, но нет человека (кроме душевнобольных в состоянии идиотизма), которому оно было бы совсем чуждо, как нет людей, у которых отсутствовала бы та или другая незаменимая часть мозга.
Поэтому нравственное чувство, по нашему мнению, так же у нас врожденно, как и физические особенности нашего тела. Высказывая эту мысль, бывшую предметом ожесточенных споров между философами, мы опираемся особенно на историю развития человечества, как она представляется нам при свете дарвинизма. Согласно этому учению, сильные индивиды и сильные породы переживают и побеждают слабые, беспрестанно упражняя свою силу или свои преимущества и завещая их затем своим потомкам, которые продолжают дело своих родителей.
Весьма понятно, что закон биологии не знает исключений и не делает различия между животными и людьми. Поэтому следует думать, что и человек победил животных, и теперь, в качестве личности или в качестве нации, продолжает одерживать верх над другими людьми и другими нациями при помощи некоторой силы, которую он постоянно упражняет и передает потомству.
Какая же это сила?
У низших животных в роковой борьбе за существование имеют решающее значение чисто физические особенности или элементарные преимущества тела. Более толстая и, следовательно, менее ранимая кожа, чем у соперника, сильные крылья или более крепкие ноги, облегчающие бегство от врага или же добывание пищи и т.п. – вот что крайне нужно животным, смотря по среде и условиям существования каждого из них. Но уже в классе позвоночных, рядом с рогами, копытами или острыми зубами, выступает новое и могущественное орудие борьбы – степень развития головного мозга, которая с появлением на земле человека, делается решающим фактором, центр тяжести мирового процесса эволюции с тех пор перенесся из чисто растительной сферы животного в орган его душевной жизни.
Итак, головной мозг и, в особенности, его серая кора с покрывающей ее сетью извилин, как орган высших душевных отправлений человека, - это и есть неисчерпаемый источник нашей силы и нашего совершенства, то, чем мы победили мир, и чем люди и народы и поныне побеждают друг друга. Мы надеемся, что эти интересующие нас функции, а отчасти и их взаимные отношения, после предыдущих рассуждений и примеров, рисуются теперь читателю в довольно ясных очертаниях. В борьбе за существование между отдельными людьми и народами главным залогом успеха являются нравственные качества и умственное развитие, говоря иначе – воздержание и любовь, руководящие и руководимые умом. Правда, что в отношениях между личностями торжество добра нередко затемняется в наших глазах игрою случая и, в особенности, нашей непривычкой к правильному психологическому наблюдению и анализу, но зато оно выступает очень рельефно в борьбе между сословиями и целыми нациями.3
Так, например, в истории многих народов среднее и низшее сословия более или менее претендуют заступить на место вымирающего или оттесняемого высшего класса, так как при чисто умственном развитии людей, не идущем рука об руку с нравственным, богатство и власть обращаются во вред человеку, развращают его и губят. По той же причине невежественные варвары обрушились и раздавили древний «культурный» Рим и все римское государство. Или вот еще пример из текущей политической хроники. Еще недавно появление какой-нибудь европейской нации в соседстве с тем или другим диким племенем, даже при вполне мирных взаимных отношениях, было для последнего равносильно смертному приговору, так как первобытная культура не в состоянии успешно бороться с носителями умственно-нравственного прогресса, какими еще недавно, хотя только отчасти являлись европейцы. Но по мере того, как духовно-нравственный источник нашей цивилизации, который она нашла в христианстве, по философскому недомыслию людей, все более и более иссякает, а односторонне-умственный прогресс мало-помалу отклоняет нас от прежнего пути в сторону «просвещенного» эгоизма и «просвещенного» материализма. Горизонт отдаленного или даже близкого будущего европейских народов все более и более заволакивается тучами, и недаром еще вчера, по поводу нравственной мощи китайцев, неожиданно развернувшейся перед изумленным взором Европы, многие были смущены призраком надвигающейся для нашей культуры опасности.
Все это имеет прямое, непосредственное отношение к нашей теме.
В самом деле, если любовь к брату и воздержание являются не только «украшением» души, не только очень желательным в других качествах, как это представляется многим, но непреложным законом этой души, единственным условием счастья, могущества и главным орудием эволюции высших животных и человека в духе дарвинизма. Так не нелепо ли видеть в пищевом режиме, исключающем убийство и, в сущности, составляющем неразрывную часть общей и широкой программы добра, какую-то химеру, или что-то чуждое человеку и его потребностям?
Не странно ли предположить, что мудрый Промысел, который с таким неподражаемым, непостижимым для нас искусством поставил все явления жизни и природы в самую тесную между собою органическую связь, мог создать человека для ниши, основанной на неустанном упражнении в убийстве, когда все движение вперед и животного царства - есть один сплошной триумф любви, когда только ценою любви и милосердия человек покупает каждый верный свой шаг по пути прогресса и счастья?
Имеет ли далее смысл ссылаться в защиту мясоедения, на пример многих животных, живущих друг за счет друга. Мы видим, что само Провидение, вслед за законом жестокости, носителем которого являются львы и тигры, выдвинуло в природе и противоположный ему закон любви и сострадания, как безошибочное орудие совершенства и верный путь к общему счастью, который и привел к появлению на земле человека, как воплощенного торжества этого закона любви и как его последнего слова?
Но между разным оружием, которым хотят побить вегетарианцев, есть еще одно и на вид очень солидное, имеющее, однако, свои корни в непонимании законов нравственности и человеческой души. Нам говорят: «Странно проливать слезы о страданиях животных, когда на наших глазах, тут и там, истекает кровью наш брат-человек; позаботьтесь сперва, чтобы не убивали и не мучили людей, чтобы не было войн, чтобы тысячи жизней на арене непосильного труда, на фабриках, в шахтах и т.д. ежедневно не приносились в жертву интересам немногих, чтобы вместо жестокости и неравенства в человеческих отношениях царили любовь и справедливость, и тогда, пожалуй, можно будет подумать и о животных. В настоящее же время, пока человек еще стонет под тяжестью неправды и кровопролития, все наши призывы в пользу животных звучат чем-то лицемерным и приторным».
Так ли это?
Вернемся к учению дарвинизма. Особенности породы, полученные по наследству и являющиеся орудием успеха в борьбе за существование, не только передаются в свою очередь потомству, но еще в течение всей жизни индивида укрепляются и изощряются в нем путем упражнения. В противном же случае, т.е. при отсутствии упражнения, а тем паче при упражнении в противоположном направлении, эти доставшиеся животному свойства захиреют, придут в упадок и передадутся потомству в ослабленном виде, или же даже совсем до него не дойдут.
Для нашей человеческой расы орудием и залогом успеха в борьбе за существование служат ум и нравственное чувство в том их взаимодействии, которое достаточно освещено нами выше. Следовательно, человек, чтобы удержаться на той высоте, на которую его поставила история развития животных, подчиняясь мировому процессу, должен неустанно упражнять в известном направлении свой ум и нравственное чувство, чтобы эти качества в нем не завяли, не атрофировались, а все больше крепли и передавались потомству в усовершенствованной форме. Либо вперед, либо назад – вот в нескольких словах этот закон развития. Взаимодействие ума и нравственного чувства это – мысли, любовь и воздержание в тесном между собою союзе, как мы уже подробно развивали. Итак, вот та высшая и сложная функция головного мозга, которая требует беспрерывного упражнения и развития, для того, чтобы обеспечить как существование человечества, так и безостановочное движение его вперед по пути истинного прогресса.
Читатель, наверное, помнит тот длинный ряд чувств или нравственных идей, которые обнимают эти два обобщенных понятия – любовь и воздержание. Любовь к родным или близким, к своему народу, к своей стране и ко всему человечеству, чувство долга, любовь к правде и справедливости, любовь к Творцу (религиозное чувство), потребность в одобрении ближних или зависимость от общественного мнения (славолюбие и честолюбие) – все это и еще некоторые другие понятия входят в общее определение любви или альтруизма. Воздержание – родная сестра или даже детище любви и обозначает совокупность целой категории специально тормозящих представлений, каковы: не убий, не укради, не угождай своему чреву, не прелюбодействуй, не лги, не клевещи и т.д.
Вот, следовательно, те чувства, которые мы должны тщательно культивировать, и те преграды, через которые мы не должны переступать. Действуя в обратном смысле, исходя в своих поступках из ненависти и невоздержания, причиняя ближнему зло, убивая, говоря ложь, клевеща, - мы нарушаем основной закон нашего развития и постепенно сглаживаем в своем мозгу те следы или понятия, которые начертаны там Провидением, как источник общего блага и нашего личного счастья. Дабы человек, толкаемый своими вышедшими из границ физическими инстинктами и искушаемый умом, не уклонялся от стези добра, существуют для него еще три побудительные силы.
Во-первых, нравственные чувства и идеи, насколько они запечатлены в нашем мозгу, требуют удовлетворения, которое, как и удовлетворение чисто физических потребностей, но в неизмеримо большей степени, является источником наслаждения и счастья. Оттого и говорят, что добродетель носит в самой себе свою награду.
Во-вторых, правильно настроенное общественное мнение, особенно в нравственно развитой среде, знает настоящую цену добродетели, и, следуя своему назначению, окружает ее славой и почетом. Впрочем, и самое развращенное общество невольно отдает дань уважения высоким качествам души. Это будет хотя внешняя, но также очень важная награда. О целесообразной подкладке, с точки зрения блага общества и прогресса, этого, как и других социальных чувств, мы распространялись уже в своем месте.
Наконец, третья сила, наиболее способная удерживать нас на пути добра, лежит в нашем уме. Мы уже видели, что, если в борьбе между нашими физическими и нравственными инстинктами весы склоняются на сторону первых, то ум берет на себя пагубную, чисто отрицательную роль, заглушая еще не совсем умолкший голос совести (т.е. протест нравственного чувства) своими софизмами и ухищрениями, а также открывая широкое поле для более утонченного или более полного удовлетворения победившего инстинкта. Напротив, при перевесе на стороне доброго начала, тот же ум освещает последнему настоящий путь для его осуществления. Но эта услуга мысли в деле добра совершенно бледнеет перед другими ее благодеяниями.
Прежде всего, она натолкнула все народные массы на сознание необходимости создать школу чисто теоретического упражнения и изощрения нравственных инстинктов, с целью облегчить и подготовить их победу на арене практической жизни. Таким образом, зародились религиозное учение и религиозный культ. Вознося молитвы к Творцу, предаваясь религиозному чтению или слушая проповедь, мы теоретически упражняем и закрепляем высшие качества нашей души, чтобы они могли устоять в борьбе с ожидающими их на житейском поприще искушениями. Так как физический или умственный труд часто поглощает почти все время, свободное от сна и физического отдыха, то это создает необходимость отвести один день в неделю специально для религиозно-нравственных упражнений. Это и есть воскресный день, соблюдение которого согласно его назначению в высшей степени важно для «гигиены духа».
Общеизвестно правило, что всякая теория должна идти рука об руку с практикой и что теория без практики представляет собой аномалию. Именно такое ненормальное явление мы встречаем довольно часто в жизни в деле теоретического упражнения наших нравственных чувств. Нетрудно понять, что такое упражнение дается нам гораздо легче, чем практическое, житейское осуществление этих чувств в борьбе с эгоизмом, корыстолюбием (преувеличенное чувство собственности), половым влечением, обжорством и т.д. А потому, некоторые люди, вследствие известного лукавства или лицемерия, поддавшись уму-соблазнителю, усиленно посещают храм Божий, «долго стоят на молитве», и т.д. Получив таким, так сказать, дешевым и непроизводительным способом почти полное нравственное удовлетворение (о чем речь была выше), истратив почти весь запас нравственной энергии, они, затем, на житейской сцене «с легким сердцем» творят зло.
Однако такое злоупотребление религией, вызвавшее знаменитую нагорную проповедь Христа, совершенно напрасно дискредитирует в глазах некоторых людей саму систему теоретически-нравственных упражнений. Конечно, тот из нас, кто при высоком уровне нравственного развития, непрестанно осуществляет заветы Творца на практике, успешно борясь с искушениями и своими делами свидетельствуя о настоящей любви к ближнему, пожалуй, исполняет до известной степени высокое назначение человека и живет духовной жизнью помимо специальных теоретических упражнений. Но много ли таких выдающихся людей? В водовороте житейских интересов и неустанного труда, не грозит ли большинству, в особенности массе, некоторое притупление и забвение нравственных чувств, если последние не будут культивироваться при помощи особенного религиозного режима? И не присутствуем ли мы в наше время при таком процессе «материализации духа» даже в среде, отставшей от религии интеллигенции, для которой односторонняя, чисто умственная пища или культ искусства с его обычной эротической окраской, не может ни в каком случае служить школой упражнения духовно-нравственной стороны нашей природы?
Чтобы достаточно оценить значение этой потребности духа, как и другие его законы, надо мыслить, надо уметь анализировать явления души с такой же правильностью и объективностью, с какой мы исследуем видимые предметы и неодушевленную природу. Вот вторая самая существенная и самая радикальная услуга ума в несравненном деле упрочения нашего альтруизма и нашей нравственности. История и жизнь учат нас, что «вера» людей в истину, к сожалению, подвергается частым колебаниям. Веру часто сменяет «безверие», нередко, и якобы «умные» люди, ослепленные своим эгоизмом или безнравственностью, в глубине души не верят в добро и считают доброе начало только необходимым и удобно эксплуатируемым качеством «для народа», «для других», но не для себя. Поэтому все усилия мыслящих людей должны быть направлены на то, чтобы, наконец, при помощи современного знания предмет веры превратить в непреложную, научную и удобно-доказуемую истину. И чтобы рядом с разработанной уже наукой о природе, создать и настоящую науку о человеке, о его душе и о законах нравственности – науке, которой до сих пор еще не существует. Тогда только любовь к ближнему и воздержание утвердятся в сознании людей на незыблемом фундаменте мысли, и та неразрывная связь, которая существует между отдельными вопросами морали, в том числе и вегетарианском, не будет больше ни для кого предметом сомнений.
Как ни обширна эта задача, полное разрешение которой придется на долю будущих поколений, однако и теперь уже психофизиологический анализ в том направлении, в котором мы ведем все наше рассуждение, дает нам ключ к оценке многих явлений нашей психологии и некоторых выдающихся законов нравственности, имеющих прямое отношение к вегетарианству. Попытаемся же сформулировать нашу мысль в нескольких положениях, которые мы затем поясним примерами.
1. Наши нравственные чувства, т.е. нравственные представления или соответствующие им мозговые клеточки (психические центры, помещающиеся в передней, лобной части мозговой коры), можно разделить на 2 системы, соответствующие общему чувству или общему понятию любви и общему чувству или понятию воздержания.
Первую систему составляют: любовь к родителям, к близким, соотечественникам (национальная любовь), к родине, ко всем людям, любовь к правде, справедливость, чувство равенства, чувство свободы, благоговение перед Творцом (религиозное чувство), трудолюбие (частью нравственное, частью физическое чувство), уважение к праву и т.п.
Вторая система складывается из чисто-тормозящих представлений или чувств: не убий, не укради, не чревоугодничай (чувство умеренности в удовлетворении голода и жажды), не прелюбодействуй, не лги, и т.д.
Все заведующие этими чувствами высшие психические или задерживающие центры являются антагонистами других центров, служащих исходным пунктом наших физических и эгоистических инстинктов. Это - чувство самосохранения, обаяние перед физической силой (вероятно, одно из жалких животных наследий, столь неуместное на фоне почти способной творить чудеса нравственной энергии человека), чувство голода, половой инстинкт и т.п. Из них первые развились у человека, как орудие в борьбе за существование и как вернейший залог его дальнейшего преуспевания на земле.4
2. Как между отдельными членами или клеточками каждой системы, так и между самими системами существует неразрывная анатомо-физиологическая связь, соединяющая их в одну общую систему центров нравственности.
3. Функции всех описываемых психических центров (т.е. центров нравственных чувств), а вероятно, и сами центры существуют, крепнут и развиваются, при условии непрекращающегося упражнения или торжества противоположных им центров, заведующих нашими физическими инстинктами и эгоистическим чувствами.
В этом смысле особенно важно первое поражение, наносимое инстинктом или эгоизмом нравственному чувству. Последнее при этом как бы уподобляется плотине, и вся система тормозящих представлений (не убий, не укради и проч.) есть ничто иное, как целая цепь воздвигнутых в нашем сознании плотин или барьеров, обязанных устоять против напора «страстей». Естественно, что раз прорванная плотина уже более не в состоянии удерживать поток, вследствие чего убийство, грехопадение и тому подобные преступления или проступки обыкновенно роковым образом повторяются.
4. Вследствие взаимной связи между разными центрами, скопление, путем упражнения силы или энергии в одном из них, неизменно распространяется более или менее и на другие центры той же, а также и другой системы. Таким же образом, и оскудение энергии от бездеятельности, и, особенно от победы антагонистов в одном центре, отражается в том же смысле и на других центрах той же, а также и другой системы клеток.
Вследствие такой солидарности между разными родственными функциями или клетками, в душе человека устанавливается как бы некоторый общий уровень любви, и тот или другой общий уровень воздержания, а по совокупности обеих систем – один общий уровень нравственных чувств или общий нравственный уровень.
Однако отдельные центры в то же время по скрытому в них запасу упражнения или энергии сохраняют каждый и свое индивидуальное положение в системе, т.е. они хотя и делятся между собой энергией, но не поровну; а потому и нравственный уровень, выражаясь графически, представляет не прямую, но ломаную подвижную линию, которая при всяком приливе силы или упражнения в какой-нибудь центр той или другой системы, поднимается по всей своей длине вверх, а при отливе энергии опускается вся вниз. Другими словами, всякое положительное упражнение (т.е. всякий акт любви, начиная от любви к родителям, и всякая победа нравственного чувства над противоположными побуждениями) повышает уровень любви или уровень воздержания, а также и общий наш нравственный уровень. Каждый такой поступок как бы равносилен вкладу в нашу нравственную сокровищницу, которая от повторяющихся вкладов все более богатеет. Напротив, каждый случай торжества физического инстинкта или эгоизма, каждое повреждение плотины (которое можно также назвать отрицательным упражнением нравственного чувства), понижает наш общий нравственный уровень, или разоряет нашу сокровищницу любви и воздержания. Так как оплот «не убий» у психически здоровых людей едва ли не построен крепче всех других, то, с одной стороны, для повреждения его требуется наиболее сильный напор страстей, а с другой – поломка этого тормоза со страшной силой расшатывает и все прочие барьеры души, в том числе, и закон любви.
Ввиду такой подвижности или податливости нашего нравственного уровня, к нему вполне применимо также название нравственного тонуса или нравственного настроения, по аналогии с известным из психологии и психиатрии чувственным тонусом или чувственным настроением (в смысле грусти, веселья и т. д.).
5. Наконец, для нашей цели очень важно понимание еще одного явления психологии, которое можно назвать законом нравственного приспособления. Мы уже знаем, что чем крепче была преграда, снесенная или поврежденная натиском инстинктов, тем сильнее потрясение, получаемое при этом всем зданием нашей нравственности, тем чувствительнее падение общего уровня последней. И наоборот: от нарушения слабой преграды общее нравственное чувство терпит гораздо меньший ущерб. На этом основано приспособление нашего душевного механизма к некоторым отрицательным явлениям жизни, приспособление, столь же важное и целесообразное, как и то, которое систематически господствует в наших растительных отправлениях. В силу представленных выше объяснений, всякое торжество зла, особенно возведенное в систему и обычай, например, в виде войн, рабства, дуэли и т.д., должно бы действовать самым разрушительным образом на наше общее нравственное чувство, сводить его, беспрестанно понижая его уровень, почти к нулю и истощить таким образом все общественные запасы альтруизма. На деле, до этого большей частью же не доходит, так как нас до известной степени выручает некоторая иллюзия мысли. Последняя, опираясь частью на искренние заблуждения, частью - на так называемые соблазны ума (см. выше), пытается рядом с известным нравственным представлением создать в душе другое, парализующее первое (например, рядом с «не убий» - «но убийство на войне не грех, а напротив, долг гражданина и солдата» и т.п.) Другими словами, стремясь уже предварительно расслабить или упразднить применительно к данному случаю известный нравственный барьер, наша мысль более или менее предупреждает и то попрание его, которое неминуемо расслабило бы и всю систему тормозов и любви.
Однако, с другой стороны, мы не должны забывать, что стереть окончательно в нашей душе следы нравственных представлений или выражаясь образно, снести до основания настроенные там плотины или барьеры, никакая мысль не в состоянии (ибо эти представления или чувства принадлежат к обыденной физиологии души). Следовательно, и общеразвращающее действие всякого утвердившегося в жизни зла совершенно неминуемо, оно может быть тем или иным способом только ослаблено, но не вполне устранено.
1 Такая двойная иннервация или регуляция в настоящее время твердо установлена для сердца, кровеносных сосудов, кишечника, зрачка, отраженных движений (рефлексы) и в некоторых других случаях; но она представляется вероятной и для всех других отправления организма.
2 Так как ум сам по себе есть сила слепая, которая служит и доброму началу и злому, то ясно, что всякая истинная культура и всякое истинное просвещение должны ставить себе задачей не только развитие ума и обогащение его познаниями, но всего больше и главным образом – духовный подъем людей или их нравственный рост, при самой деятельной и неустанной проповеди любви к ближнему и воздержания, как единственно верного залога человеческого счастья. Ибо без любви, как это явствует из сделанных нами выше определений, не бывает ни справедливости, ни правды в личных и общественных отношениях, ни более или менее равномерного распределения материальных благ и т.д. Но в наш век электричества и телефона, кажется, забыли эту истину и, ослепленные блеском новейших открытий в области материалистических наук, по какому-то недомыслию люди почти отказались от прежнего идеалистического, религиозно-философского направления, вместо того, чтобы неуклонно следовать тем же путем, только при свете современного знания. Результатом этой ошибки был упадок идеализма (т.е. нравственных чувств и представлений), который уже приносит очень горькие плоды и в Европе, и у нас. На наших глазах как бы возрождается древняя, односторонняя культура, с расцветом так называемых наук и искусств, нисколько не исключавшим в свое время ни рабства, ни жестокости, ни беспутства и т.д. Но уже в древности лучшие умы протестовали против такого направления культуры, и мы не можем устоять против искушения цитировать некоторые мысли великого Сенеки, современника римского императора Нерона, очень живо напоминающие нам образование, получаемое и в настоящее время большинством людей в Европе и у нас: «О несравненное, превосходное воспитание! Благодаря ему ты можешь измерять круги и квадраты и все расстояния между звездами. Все стало доступно для твоей геометрии. Но если ты такой прекрасный механик, измерь же ум человеческий! Скажи мне, как он велик или как он мал. Ты знаешь, что такое прямая линия, какая тебе в этом польза, если ты не знаешь прямого пути в жизни! Итак, что же? Все свободные науки оказываются несостоятельными. Для чего другого они пригодны, для добродетели же ничего не стоят…» «Всегда ли внушают свободные науки эти правила? Так же мало, как мало они способствуют воздержанию и умеренности в жизни, как мало содействуют милосердию, одинаково осмотрительному в пролитии чужой, как и собственной крови…»
3 Прежде всего, любящий и нравственный человек берет верх тем, что в большинстве случаев он оставляем после себя больше потомства, чем эгоисты и порочные люди. По этой причине главное плодящееся ядро европейских, а вероятно, и других наций составляет бедный класс, который при ложном, односторонне-умственном направлении культуры и неразрывно с ней связанной развращенности высших сословий, не смотря на свою умственную отсталость, остается главным хранителем добрых начал жизни. Да иначе и быть не может. Ведь необходимой гарантией размножения является, рядом с половой нравственностью, и умение охранять жизнь детей, предполагающее у родителей любовь и самоотверженность, вообще большой запас альтруизма, а не противоположные свойства. Но помимо счастья и полноты жизни, которые дают семья и дети, помимо долговечности, которая часто является наградой за умеренность и нравственность, добродетель ждет еще иное воздаяние внутреннего и внешнего характера. Во-первых, следование ей дает нам высокое внутреннее удовлетворение (в силу общего закона удовольствия от удовлетворения потребностей) и гордое сознание исполняемого долга - это настоящее ощущение счастья в полном значении этого слова. К тому же, даже в испорченном обществе добродетель внушает к себе тайное или явное уважение, а на более высокой ступени общественно-нравственного развития ее окружают даже почет и слава, следовательно, то, что удовлетворяет один из наших самых сильных общественных инстинктов, поэтому также является источником счастья. Если же кто по неразвитости или вследствие развращенности не получает от воздержания и любви к ближнему никакого удовлетворения и не чувствует вовсе этих потребностей, потому ли, что следы нравственных идей в его мозгу никогда не были достаточно ясно запечатлены (нравственная неразвитость), или же они сгладились впоследствии (развращенность). Такой человек по состоянию своей души вообще не способен к высоким нравственным ощущениям, и его «счастье», будь он, например, богат и знатен, в сущности, столь же незавидно, как благополучие сытой коровы. 4 Все эти данные уже хорошо известны читателю и приведены здесь только для большей наглядности в отношении нижеследующих положений.
|


 РАЗВЛЕЧЕНИЯ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ВЕГЕТАРИАНСТВО
ВЕГЕТАРИАНСТВО  МЕХ
МЕХ СОБАКИ
СОБАКИ ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГУМАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Видео
Видео  Фото
Фото  Книги
Книги  Листовки
Листовки
 Закон
Закон  НОВОСТИ
НОВОСТИ
 О
нас
О
нас  Как
помочь?
Как
помочь?
 Вестник
Вестник
 СМИ
СМИ
 Ссылки
Ссылки  ФОРУМ
ФОРУМ  Контакты
Контакты 

 ПОИСК НА САЙТЕ:
ПОИСК НА САЙТЕ:






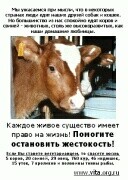
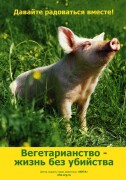



 ВАЖНО!
ВАЖНО!
















































































































